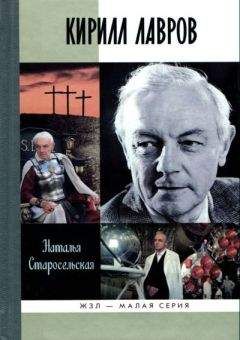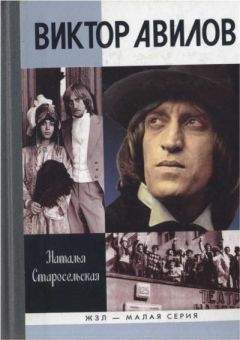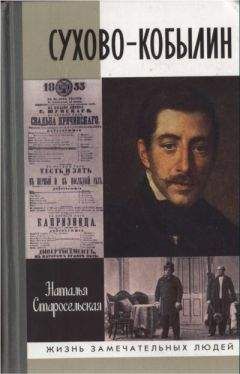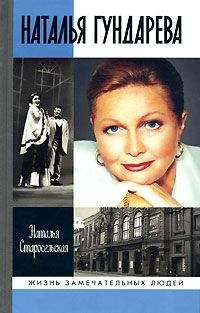В одном из интервью по поводу «Поднятой целины» Кирилл Юрьевич Лавров говорил, что дороже прочего для него в Давыдове «вот эта романтичность его, взволнованное отношение к жизни. В сущности его практичность, решительность отдельных поступков есть следствие главного качества души — романтической взволнованности. Показать ее изнутри, не сразу, как свойство натуры, как качество характера — это и означало для меня сыграть самое дорогое в Давыдове.
Моя главная сцена в роли — ночь перед гибелью. Те мгновения, когда я, Давыдов, читаю Ленина, его слова о будущем. Я действительно очень волновался, произнося их вслух, потому что тут было самое сокровенное, смысл жизни героя. И зерно характера.
Усталость его была придумана и заложена в роль. Ведь романтизм свой он никому не показывал. Он, может, и слова-то не знал такого. Он каждый день, от петухов до петухов, был просто занят тяжелой, изнурительной работой. Он был измочален ею. И действительно, еле держался на ногах от усталости. Мне хотелось лишить его мнимой значительности. Внешней монументальности. Не какой-то феномен, супергерой, железобетонная личность. Нет. Такой же вот смертный, как и мы. И грешный. И в чем-то наивно-простодушный… Но он знает главное — во имя чего он здесь. И этому знанию, этой романтической мечте он не изменит».
Эти слова чрезвычайно важны для нас, потому что раскрывают не только характер героя «Поднятой целины», но во многом и характер самого актера. «Романтическая взволнованность» была в высшей степени присуща и Кириллу Лаврову, хотя вряд ли он задумывался над этим. Но именно с этим качеством, с этой чертой характера связано накрепко то ощущение, которое вынесено в название нашей следующей главы — «Я отвечаю за все!». Сопряжение жизни и творчества, их неразрывность, их взаимопроникновение были невероятно важны для Кирилла Юрьевича Лаврова, осознававшего как смысл жизни служение людям. Самым разным. Тем, кому это было необходимо, — почувствовать чье-то неравнодушие к своей судьбе, разделенность, желание помочь, поддержать…
Были такие личности, именно в 1960-е годы осознавшие это сопряжение как свой долг. Таким был Михаил Ульянов. Таким был Олег Ефремов. В этих людях значительно сильнее, чем в других актерах, проявлялись черты «романтической взволнованности» жизнью общества в целом и отдельных его представителей. Может быть, именно поэтому им суждено было воплощать на экране почти исключительно положительных героев.
И в этом была горькая расплата…
Ни малейшей фальши не было в спектакле. «Это одно из крупнейших произведений нашего театра. Он помогает видеть и думать исторически», — отмечал Д. Золотницкий. И это были не просто слова, в них ощущалось предчувствие грядущих перемен в жизни общества.
Наступали другие времена, оттепельная тень таяла буквально на глазах, а вместе с ней таяли надежды и мечты. Чувствуя это, Георгий Александрович Товстоногов не пытался удержать время, остановить отнюдь не прекрасное мгновенье — он был как всегда жесток и конкретен: умея видеть, думать и обобщать исторически, он хотел дать этот урок и своим зрителям.
Может быть, напоследок. Может быть, в надежде на пробуждение в человеке каких-то необходимых для противостояния механизмов…
Хотя и в это верилось все меньше и меньше.
Двенадцатого октября 1964 года в Большом драматическом театре начались репетиции чеховских «Трех сестер», еще одного великого спектакля Георгия Александровича Товстоногова, спектакля, на мой взгляд, одного из самых пронзительных и горьких в его творчестве, в котором мы увидели Кирилла Лаврова совершенно непривычным, новым, завораживающим своим мастерством.
А через два дня после начала репетиций, 14 октября, время снова совершило некий виток, перевернулись песочные часы — неуловимо и неумолимо. Именно в этот день состоялся исторический Пленум ЦК КПСС, на котором Н. С. Хрущев был отстранен от власти. Может быть, Кириллу Юрьевичу Лаврову вспомнился в тот день зять Никиты Сергеевича, директор Театра им. Леси Украинки, конфликт с которым заставил Лаврова покинуть Киев? И, кто знает, может быть, вспомнился с благодарностью — и за полученный урок борьбы с ветряными мельницами, и за то, что он оказался здесь, в БДТ, у Товстоногова…
Первая репетиционная запись датируется 15 октября, следующим днем после пленума, о котором говорили на всех углах, гадая, что же будет дальше. Стенограмма репетиций велась Н. Пляцковским и точно запечатлела не только высказанные слова, но и атмосферу этой первой репетиции.
«Какое самое главное событие, предшествующее акту? Самое важное событие — смерть отца. Надо понять, что такое генеральская семья в то время. Это обеспеченность, покой, отсутствие забот. Так шла жизнь. И в один день все кончилось. Теперь каждому надо определяться. Этот год был годом траура, сегодня траур снят, надо задуматься о дальнейшей жизни… Год прошел без отца, и сегодня все всплыло, все обострилось благодаря приезду Вершинина… Сегодня брат и три сестры стали лицом к лицу с жизнью, и они должны взять жизнь на себя… Кончился траур, надо начинать жить по-новому. Сегодня всех объединили именины, все — в одном фокусе и при этом оказались разъединенными. Первый акт очень взвинченный. Чехов ставит вопрос так: что будет с героями, с их душами? Дальнейшим развитием пьесы движет этот вопрос, а не повороты сюжета, как было бы у других авторов.
Сквозное действие первого акта — создать праздник. Кончается акт тем, что праздник не состоялся. У всех желание сделать хорошие именины, а они не получились. Кончен траур, сняты многие запреты… Уже надо жить, можно жить, а не получается».
Такова была структура конкретного жизненного момента — жить было можно, но не получалось, никак не получалось! И хотя было бы опрометчиво соотносить напрямую мысли режиссера, связанные с «Тремя сестрами», и события, происходящие вокруг, было бы глубоко неверно развести их по разные стороны; настроение, атмосфера, в которых начинались репетиции, были тесно связаны с реальной ситуацией растерянности и неопределенности.
Георгий Александрович Товстоногов писал: «Почему из всех чеховских пьес мы выбрали именно „Три сестры“? Мне казалось, что тема трагического бездействия с особой остротой звучит в наш век — век активного творческого вмешательства в жизнь. И чем приятнее, добрее, прекраснодушнее будут герои пьесы, тем страшнее прозвучит тема их душевного паралича. И, рассказывая сегодня о неосуществленной мечте чеховских героев, о крушении их идеалов, мне хотелось передать трагизм свершившегося с ними, потому что „Три сестры“ — произведение трагическое. Акварель, полутона — лишь средство, а главное — гражданский гнев писателя и его любовь к человеку, здесь градус авторского отношения к действительности очень высок…»
Василий Васильевич Соленый представал в трактовке Кирилла Лаврова существом глубоко несчастным, несмотря на ту уверенность (даже — наглость), с которой он постоянно старался держаться, несмотря на его открытый, декларируемый демонизм. Все в нем было книжным, заемным, наносным, а под этим панцирем прятался хорошо известный в русской литературе тип «лишнего человека», не ведающего, куда ему деться с его ненужной Ирине любовью, с его одиночеством и бесприютностью.
Уже на первой репетиции Г. А. Товстоногов акцентировал: «Соленый — странная фигура. Он наиболее изолированный человек из всех. К нему в первом акте никто не обращается. Вроде его все не любят, но, с другой стороны, он бывает в этом доме много и часто. Не потому ли с ним все примирились, что знают о его неистребимой любви к Ирине? Человек влюблен, с этим ничего нельзя поделать. Гнетущая это штука — любовь Соленого. Он не пользуется симпатией хозяев, но любовь, тем более безнадежная, такая уважаемая вещь, с которой надо примириться. Поэтому, с одной стороны, он чужой здесь, а с другой — свой. Его хамство и бестактность — это форма самозащиты. Он культивирует сходство с Лермонтовым. Лермонтов в его представлении — роковой герой. Человек, который пыжится быть роковым, выглядит нелепым в этом стремлении, — в силу обстоятельств оказывается действительно роковым. Это гениальный ход в пьесе…
Соленый и Тузенбах — это столкновение цинизма и идеализма, не в философском, а в нравственном смысле. Один не верит ни во что, другой верит во все».
Но не только цинизма и идеализма, позволю себе дополнить мысль Георгия Александровича. Здесь сталкиваются словно два мира — мир человека, крайне неуверенного в себе (от этого постоянная бестактность Соленого, его грубость и вмешательство во все) и оттого желающего все говорить и делать наперекор другим, и мир человека, который верит в себя, а значит, и в будущее. Верит в то, что труд может принести счастье; верит в то, что Ирина со временем полюбит его; верит в самое жизнь…