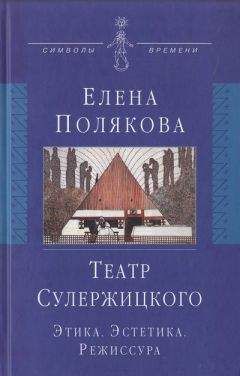— Вы не можете понять чувства человека, у которого нет дома, — сказал он одному из своих интервьюиров. — Может быть, никто другой, как мы, старые русские, понимаем: даже воздух Родины другой.
— Вы что-нибудь сочиняете? — спросил его журналист.
— Уехав из России, — ответил Рахманинов, — я потерял желание сочинять. Лишившись Родины, я потерял самого себя. У изгнанника, который лишился музыкальных корней, традиций и родной почвы, не остается желания творить, не остается иных утешений, кроме нерушимого безмолвия нетревожных воспоминаний.
На склоне лет, как бы оглядывая пройденный путь, он подчеркивал:
— Я русский композитор, и моя Родина имела влияние на меня, на мой темперамент и мои взгляды. Музыка моя — продукт моего темперамента, и потому она русская музыка.
Он любил цветы, деревья или если дымом пахло. И вообще запахи деревенские, деревенскую жизнь. И все хорошее напоминало ему о России. Когда он хотел похвалить что-нибудь, он часто говорил: «Как в России». И не было большего удовольствия для него, как получить в подарок русскую книгу.
Из писателей особенно выделял Чехова и Бунина. К Антону Павловичу Чехову относился с благоговением и как к человеку. Никогда не уставал слушать рассказы о нем. И не в шутку сердился, если кто-нибудь позволял себе недостаточно одобрительное замечание о писателе, в котором все было близко и понятно Рахманинову: его творчество, любовь к родной природе, к человеку. В Бунине особенно привлекала Сергея Васильевича внутренняя музыкальность его стихов. Он даже утверждал, что Иван Алексеевич все по-особенному слышит.
Симпатии Рахманинова и Бунина были взаимны. Однако судьба разъединяла их. Встречи были случайные и обычно недолгие. В память о них есть два фото. На одном Бунин, любитель разыгрывать разные сценки, словно неожиданно встретив Сергея Васильевича, подчеркнуто-торжественно пожимает ему руку. На другом — дочери Рахманинова, Татьяна и Ирина, которым Бунин читает свои стихи. Он, как узник, сидит на скале над морем, в рубашке с короткими рукавами, а Ирина стоит над ним, раскинув руки, словно ангел — крылья.
Когда в доме собирались гости, на столе появлялась кривая бутылка с «наполеоновским» коньяком. Рахманинов наливал, угощал. Разрезанные пополам сигареты лежали на столе. Сергей Васильевич неторопливо вставлял половину сигареты в темный мундштук и рассказывал. О своей молодости. О рыбной ловле с Антоном Павловичем Чеховым. О встречах с Львом Толстым, со Станиславским.
Воспоминание о встрече с Толстым, как признавался сам Сергей Васильевич, было не из приятных. Произошло это после неудачи с его Первой симфонией, на которую молодой еще тогда композитор возлагал большие надежды. Провал произвел на него сильнейшее впечатление. Он впал в уныние, бросил заниматься и сочинять, целые дни проводил на кушетке и ни на какие увещевания не реагировал. Родные и друзья пытались вывести его из состояния апатии. Однажды они решили устроить ему встречу с великим писателем. Толстому сказали, что есть, мол, такой молодой человек, талантлив, но отчаялся в себе, бросил работать. И надо его поддержать.
У Льва Николаевича Рахманинов играл тогда Бетховена. Есть у него такая вещь с лейтмотивом, в котором звучит грусть молодых влюбленных, вынужденных расстаться. Кончил. Все вокруг в восторге, но хлопать боятся, смотрят — как Толстой? А он сидит в сторонке, руки сложил сурово и молчит. Все притихли, видят: ему не нравится...
— Ну, я, понятно, от него бегать стал, — рассказывает Сергей Васильевич. — Но к концу вечера вижу: старик прямо на меня идет. «Вы, говорит, простите, что я вам должен сказать: нехорошо то, что вы играли». Я ему: «Да ведь это не мое, а Бетховен». А он: «Ну и что же, что Бетховен? Все равно нехорошо. Вы на меня не обиделись?» Тут я ему ответил дерзостью: «Как же я могу обижаться, если Бетховен может оказаться плохим?..» И сбежал. Меня туда потом приглашали, а я не пошел.
Примерно за год до того, как Михаил Чехов гостил у него в Клерфонтэне, рассказывал Сергей Васильевич эту историю Бунину. В разговоре с ним (это было на Ривьере, в Жуан-ле-Пен) он признался, что не тем поразил его Толстой, что Бетховен ему не понравился или что сам он играл плохо. А тем, что он такой, какой он был, мог обойтись с молодым, начинающим, впавшим в отчаяние, так жестоко. Потому, мол, и не пошел больше.
— Вот, Сергей Васильевич, этим последним вы себе приговор изрекли! — сказал Бунин. — С начинающими, молодыми жестокость необходима. Выживет — значит, годен. Если нет — туда ему и дорога!
— Нет, Иван Алексеевич, я с вами совершенно не согласен, — сказал Рахманинов. — Если ко мне придет молодой человек и будет спрашивать моего совета, да еще не в моем, а в чужом искусстве, и я буду видеть, что мое мнение для него важно, — я лучше солгу, но не позволю себе быть бесчеловечным.
Поднялся спор. Свидетельница его потом писала, что Бунин защищал Толстого. Говорил, что он думает о нем давно, «лет сорок пять», и что нельзя судить Толстого по нашим общим меркам. И что музыку он понимал, если, умирая, мог сказать: «Единственное, чего жаль, — так это музыки!»
Между прочим, Рахманинов рассказывал, что за столом он сознался Льву Николаевичу: «Я в себе сомневаюсь. Боюсь, у меня таланта мало...» На это Толстой ответил ему: «Об этом никогда не надо думать. Это ничего. Вы думаете, у меня никогда не бывает сомнений? Наша работа вовсе не удовольствие... Просто работайте...»
Рана, нанесенная Рахманинову неудачей с Первой симфонией, вскоре затянулась. Он много и с успехом пишет, выступает в концертах. А о том, как он — осознанно или неосознанно — воспользовался советом Толстого, Сергей Васильевич сам много лет спустя поведал, беседуя с одним журналистом. После встречи с композитором тот писал: «Из рассказа Рахманинова я как-то впервые ощутил и осознал со всей силой, что огромный, замечательный его успех, который кажется нам порою столь легким, триумфальным, как бы без усилий осуществляемым парением, вдохновенным полетом над миром юдоли, в действительности — результат очень большого напряжения, выдержки и просто физической выносливости. Те десятки концертов, которые он дает в разных странах мира в течение сезона, представляют собой нелегкое, большое дело, большой труд, сжигающий творческую энергию подвиг. Вдохновение не дается даром и гению». «Рахманинов не говорил об этом в прямой форме, — подчеркивал автор статьи, — но такое заключение явилось повелительным выводом из всей нашей встречи».
К воспоминанию о встрече с Львом Николаевичем Рахманинов возвращался не раз. Приятное оно было или не вполне приятное, воспоминание это было связано с его жизнью в России. И как все, что было для него связано с ней, грело его. Было ему необходимо. Особенно теперь. Здесь...
А с «художественниками» он в последний раз встретился в Нью-Йорке в двадцать третьем, во время гастролей театра. Их приезд за океан был для Сергея Васильевича радостью безмерной. Как бы встречей с самой Москвой. Приходил к нему тогда и Станиславский, к которому он относился с каким-то особым восхищением. Приходили и Книппер-Чехова, Москвин, Качалов, Литовцева, Лужский. Воспоминания, обмен впечатлениями... Особенно восхищал на этих встречах своим юмором и чисто московской красочной речью Иван Михайлович Москвин. Он припоминал занятные случаи из жизни театра и его артистов. Рахманинов ловил каждое слово талантливого рассказчика, следил за его выразительной мимикой.
Не меньше занимали Сергея Васильевича и серьезные разговоры, неизбежно возникавшие в обществе Станиславского. Константин Сергеевич говорил об искусстве, о самосовершенствовании артиста, о своей вере в то, что театр может облагородить человека. И еще бывали незабываемые часы, когда Качалов читал стихи Пушкина, Тютчева, Максимилиана Волошина, Бальмонта. Он любил это делать в интимной обстановке, после ужина, за стаканом вина. Лицо хозяина, часто такое задумчивое и сосредоточенное, оживлялось и преображалось во время этих дружеских встреч. Морщины разглаживались, и он то отдавался радостному, беззаботному смеху, то затихал вместе со всеми, вйимая Станиславскому или вслушиваясь в живую музыку ни с чем не сравнимого голоса Качалова.
Таких встреч было несколько. На одну из них в душный июльский вечер пришел Шаляпин. После обеда гости, вдохновленные игрой Рахманинова, дали у него целое представление. Одна за другой шли блестящие, мастерски исполняемые сценки. Когда уже во втором часу ночи все собрались уходить, Шаляпин остановил их: «Куда это вы? Я только что стал расходиться».
Потом он всю ночь чудил, околдовав, заворожив всех. Пошатываясь, изображал, как пьянчужка-мастеровой «наяривает» на гармонике, при этом как-то своеобразно выпускал и засасывал воздух одними углами рта при зажатых губах. Получался действительно характерный для гармошки звук. И как этот пьянчужка объясняется с городовым, стоящим на посту, недалеко от полицейского участка. А то расскажет смешной анекдот («С добрым утром Рыгголето»), вспомнит занятные случаи из своей жизни на Западе. Например, как в Лондоне толпа, ожидавшая выезда королевской семьи, будто его, Шаляпина, приняла за короля. Ехал он это со своим менаджером в карете — и вдруг из толпы раздается: «Гип, гип — ура!» А он не растерялся. Недаром же ему приходилось петь и Бориса Годунова, и Иоанна Грозного.