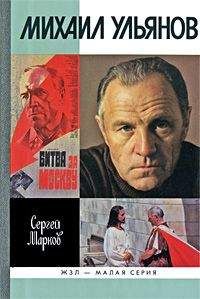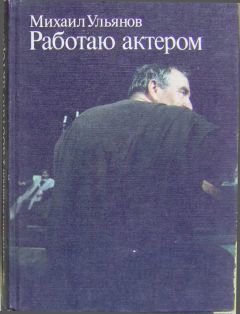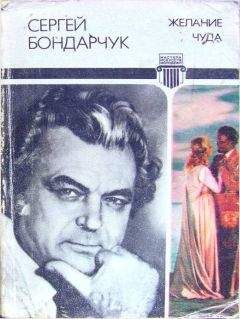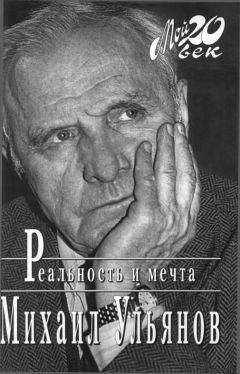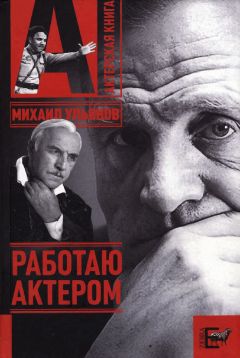«Зачем ты его здесь выставил, скажи честно? — осведомился я, расплатившись за портрет. — В то, что он позировал, не поверю. Зачем? Чтобы клиентов привлекать?» — «Само собой. И глас народа слушать». — «Учился рисовать?» — «Сам не видишь?» — «Вижу». — «С Серёжкой Присекиным в Суриковской школе учился. Он теперь народный художник, бля. Государственную премию получил. Тоже жопу лижет… А я не смог. Нальёшь стакан красного — расскажу». — «Не налью, — сказал я. — Недавно на Чистых прудах подошла одна такая, синяя, на тонких ногах — налей, говорит, папуль, стакан красного бывшей актрисе, натурой расплачусь. Я ей тоже не налил». — «Что ты сказал, сука?!.» — осерчал арбатский живописец. «Кто бы мне самому налил стакан — и выслушал», — вздохнул я…
В тот вечер я заехал к дочке Лизавете, которая была на Пушкинской у деда с бабкой. Мне хотелось поговорить с Ульяновым. Рассказать, может быть, о портрете на Арбате, рассмешить. Но он, глядя на кухне программу «Время», в которой Гайдар с Чубайсом докладывали Ельцину об успехах приватизации, был мрачен. Ничего я ему не рассказал.)
…Возвращаюсь на Рамблу-86. Прогуливаясь, мы увидели там фокусницу из Таиланда, глотающую связку с десятками разноцветных бритв, обращающихся в белых голубей, — чему Ульянов радовался как мальчишка. Женщину-змею, извивающуюся на столе и на шее у своего бритоголового, с прозрачными розовыми глазами кролика, партнёра. Женщину-культуристку, демонстрирующую перекатывающуюся под лоснящейся пористой кожей мускулатуру, — отвратное зрелище. Карлика-силача с гирями, которые так и не смог поднять ни один из зрителей. Красавца-попугая, матерящегося на всех европейских языках, в том числе русском.
— Советские моряки научили, — пояснил хозяин. — Он и водку у меня пьёт.
— Чер-рнобыль! Пер-рестр-ройка! Чер-рно-быль! — завопил попугай. — Аф-ган! Гор-рби! Гор-рби — му-дак!.. — и дальше совсем уж нецензурное.
Танцуют под старую, похожую на мандолину гитару сёстры-близнецы в национальных платьях, аккомпанирует отец. Стучат кастаньеты, каблучки, блестят чёрные глазищи и алые губки, зрители хлопают в такт, улыбаются, толстяк-немец, не удержавшись, тоже пускается в пляс, за ним старуха-американка лет ста, увешанная фотоаппаратами, летят со всех сторон цветы… Лежит посреди дороги небритый грязный мужичок, по пояс голый, весь в разноцветных наколках, изображающих быков, тореадоров, красоток. Подходят двое полицейских — он встаёт, они отходят — он ложится, подперев голову рукой, полицейские подходят, что-то ему говорят — он встаёт, отходит и снова ложится на асфальт, полицейские подходят… Мужичок ни у кого ничего не просит, ничего никому не демонстрирует — он, кажется, просто решил полежать в том месте, где ему захотелось. Возможно, он безработный тореадор, ему негде спать и нечем кормить детей, нет уверенности в завтрашнем дне. Но как-то уж слишком надменно он взирает на обходящих его слева и справа, разглядывающих татуировку туристов.
— Демократия, — констатирует Ульянов. — Но всё пристойно.
Вот гадалка, с чёрно-бордовой розой в распущенных по плечам седых волосах, забранных обручем, древняя, как сама Рамбла, но со следами андалузско-цыганской красоты. За несколько песет или долларов у неё можно узнать, что было, что будет с тобой и с миром. Михаил Александрович от гадания категорически отказывается, тёща с Леной — тоже. А я незаметно возвращаюсь, присаживаюсь на низенький детский стульчик, протягиваю руку ладонью вверх, и старуха-цыганка склоняется, вглядываясь в линии…
— И что ж она тебе нагадала? — спросила Лена, когда я догнал их на площади у фонтана. — Ты как-то с лица сбледнул.
— Потом как-нибудь скажу…
* * *
У колонны Колумба мы сели в автобус, и началась экскурсия по городу. Экскурсовод, интеллигентная миловидная еврейского типа барселонка средних лет, хорошо говорила по-русски.
В автобусе я сидел рядом с Ульяновым. Медальный профиль ничего не выдавал, но мы, хорошо его знавшие, судили о волнении, эмоциональном взлёте и даже восторге по стиснутым губам и до белых пятен сжимавшим поручень кистям рук. Да ещё по тому, что беспрерывно Михаил Александрович вскидывал свой старенький фотоаппарат «Зоркий» и, прильнув к видоискателю глазом, пытался что-нибудь сфотографировать через стекло.
Ни один город из тех, что я успел повидать, не производил столь сильного впечатления. Просто любовь с первого взгляда. Сейчас, когда пишу, я повторяю про себя слово «Барселона», и кажется, что это не название, а имя прекрасной женщины. О которой мечтал.
Вот этой женщине по имени Барселона, как Дон Кихот своей Дульсинее, и служил всю жизнь скульптор, художник, зодчий Антонио Гауди-и-Корнет. А других женщин у него не было. Он жил отшельником в шумном портовом городе и ничего не знал, кроме работы. Он никуда из своей провинциальной Барселоны не уезжал. Даже в Париж, тогдашнюю художественную Мекку, на выставку не поехал, потому что ему не нужен был Париж, как и ни один другой город в мире. Его считали ненормальным. Ему однажды заказали разработать новый, совсем оригинальный тип кувшина, а он, подумав, предложил: «Давайте сделаем его решетчатым». Он мечтал выложить на склоне Монсеррат герб Каталонии из многоцветной керамики, способный соизмеряться с горными вершинами гряды. Мечтал подвесить в ущелье между скалами гигантский колокол. Когда он работал в усадьбе Гуэль, то принципиально изменил проект лестницы, чтобы сохранить большую сосну. «Лестницу я могу сделать вам за три недели, но вся моя жизнь ушла бы на то, чтобы вырастить такую сосну».
Ульянова — было очевидно — интересовали нюансы, Алла Петровна даже в бок меня пихнула локтем, когда Михаил Александрович стал допытываться, как, на чём же держится арка, будто подвешенная в воздухе, и почему за век не рухнула асимметричная лестница с балконом?..
А я подумал о даче в Ларёве. «Зятья первым делом интересуются дачей, квартирой, машиной — а этому ничего не интересно, — сетовала Алла Петровна. — Вот что значит с детства в достатке жил!» — «Во-первых, не в таком уж достатке, — оправдывался я, — и не на дачах женился, а во-вторых, погреб под гаражом произвёл на меня неизгладимое впечатление!..»
На даче в Ларёве я побывал впервые почти через год после свадьбы. И она не то чтобы разочаровала своей непритязательностью, но прозвучала в ульяновско-парфаньяковской сонате, если можно так сказать, диссонансом. Их пятикомнатная квартира в доме на Пушкинской площади всё же являлась показателем вполне определённого уровня и качества жизни. Дача же их, «построенная собственными руками»… Кое на каких дачах мне бывать доводилось. Например, у моего крёстного литературного отца Нагибина в посёлке Красная Пахра: участок не менее гектара леса с добротным домом для прислуги, с просторным стильным хозяйским домом с залами, кабинетами, библиотекой, ванной на первом этаже, ванной на втором, выложенной уникальной чёрной итальянской плиткой, с антикварной мебелью, гобеленами… Бывал я также на неслабых, прямо говоря, дачках видных военачальников, деятелей науки, промышленности, культуры, а также теневой экономики на Николиной Горе, в Барвихе, в Жуковке…
Дача народного артиста СССР, лауреата Ленинской и Государственных премий, Героя Социалистического Труда, стоящая на участке в 12 соток, прилегающем непосредственно к оглушительному Дмитровскому шоссе, лишь чуть заслонённая от трассы «Мишкиным лесом», елями, посаженными собственноручно Ульяновым, с четырьмя небольшими комнатушками и терраской — тоже была показателем. Того, что он, почти ежедневно ходящий по высоким коридорам очень больших людей с просьбами тому помочь с квартирой, тому — с дачей, тому — с больницей, мог бы для себя кое-что посущественнее этой дачи выхлопотать — но не выхлопотал: совестно. Поневоле я сравнивал дачу в Ларёве с роскошным коттеджем знакомого директора московского рынка (которого, впрочем, под занавес властвования Ю. В. Андропова посадили за хищения в особо крупных размерах, а может быть, и расстреляли)… «А я люблю свою дачу!» — с вызовом восклицала Алла Петровна, вечно — в грядках, клумбах, с руками жилистыми, узловатыми, мозолистыми, растрескавшимися, с чёрными ободками земли под ногтями — не актрисы академического театра и супруги Героя, но самой что ни на есть крестьянки.
Ульянов работал на даче. Я не представляю его праздно шатающимся по участку или просиживающим на террасе, на лавочке, у телевизора. Он либо отсыпался после Москвы в мансарде (подложив лист фанеры, потому что беспокоила спина, травмированная в детстве, что через много лет трагически даст о себе знать, и мучил радикулит), не обращая внимания на грохот грузовиков (засыпал, как Штирлиц, мгновенно и мог дать себе установку проснуться через 20–30 минут), либо — работал, никогда долго не засиживаясь за столом. Копал землю. Подстригал, широкоплечий, кряжистый, похожий на пахаря, траву бензокосилкой, притом с тщательностью чрезвычайной, не оставляя огрехов ни под кустами смородины или крыжовника, ни в труднодоступных углах у забора. Точил кухонные ножи (случалось, от усердия или в задумчивости над ролью стачивал лезвия до шила). Вбивал гвозди (иногда по той же причине пробивая стену насквозь)…