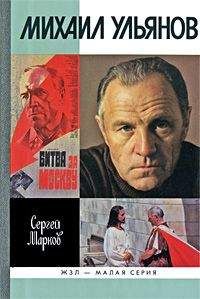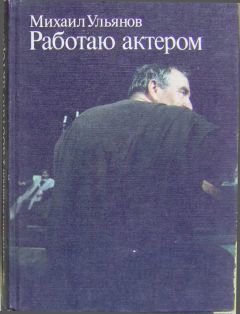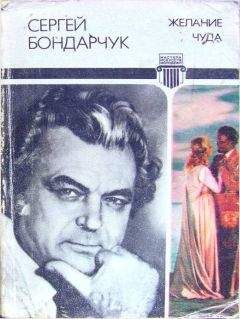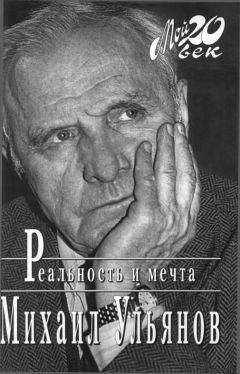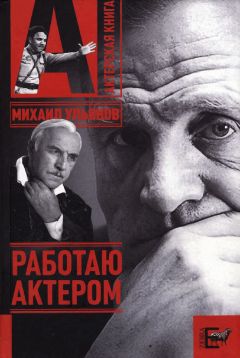— На роль вас утвердили?
— Не успел он… Я тогда на «Мосфильме» спросил его, не боится ли надорваться, уж больно замысел грандиозный, а он и автор, и в главной роли, и режиссёр. «A-а, я всё на это поставил, должен справиться!» — сказал. И надорвался, не выдержало сердце. А была бы картина…
— Он вообще-то писатель гениальный! И фильм мог бы быть гениальным.
— Когда он уже умер, мне посчастливилось сниматься в фильме по его сценарию «Позови меня в даль светлую». Смотрел?
— Очень светлая и очень добрая картина. Но — не шукшинская. Не «Печки-лавочки» и не «Калина».
— Я играл Николая, если помнишь, брата главной героини Груши, в роли которой снималась Федосеева-Шукшина. Дядю мальчишки Витьки.
— Классный у вас этот дядя. Абсолютно живой. Кажется, будто в очереди за пивом с ним стоял.
— Я этих дядей навидался довольно много на своём веку. Бухгалтер, на сто двадцать рублей тянет семью, заботится о сестре, племяннике… Мне характер, который я играл, доставлял огромное удовольствие. Потому что я как актёр не могу обходиться без какой-то житейской «оснастки». Мне нужна характерность, я теряюсь перед камерой и перед залом, если не чувствую этого фундамента.
— Вы теряетесь? А в роли маршала Жукова чувствовали постамент?
— Да. В этом, может быть, как некоторые считают, и слабина моего Жукова… А без фундамента я не могу придумать какие-то свои штучки-дрючки, ухваточки, подробности, без которых нет живого человека на экране или на сцене. Может, кто и обходится без всего этого. Я не могу. В роли шукшинского Николая, к примеру, я не раз произношу: «А, язви тебя в душу!»
— Вместо мата?
— Нет, у меня тётя так ругалась. А дядька у меня был — я его не помню, знаю лишь по рассказам мамы — так у него такая присказка была, проговаривал он её быстро: «Главна штука, главна вешш в том…» Это я тоже использовал. И вот этот недалёкий, простой мужик обнаруживает тонкость и проницательность в понимании каких-то вещей поразительную! Ты помнишь, дочка учит отрывок из гоголевских «Мёртвых душ» о птице-тройке? «…Русь, куда ж несёшься ты? дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо всё, что ни есть на земле, и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства». А он, слушая, вдруг задумывается: с кем это птица-тройка так несётся? Кто седок-то? Чичиков? Это что ж получается: Русь несётся неизвестно куда с этим прохиндеем, мошенником? Значит, это перед ним расступаются другие народы и государства? Ему дают дорогу?.. И ведь в самом деле так оно и есть. Но никому на свете до моего бухгалтера, то есть Шукшина, эта простая мысль в голову не пришла. Провидческая мысль.
— Вы считаете, что сейчас пройдут эти перестройки, ускорения — и понесётся Русь? И сидеть будет в бричке новый Чичиков?
— Понесётся. И боюсь, что будет сидеть. Другого только масштаба. Но я не пророк. А «чудики» Шукшина навели меня на мысль сделать концертную программу. Я не ахти какой чтец, не Дмитрий Николаевич Журавлёв. Но с этой программой довольно успешно выступал во многих залах, перед разными аудиториями: и в Библиотеке имени Ленина, и в Доме художника, и в клубах… Всюду залы были полны.
— Мы с Ленкой, помню, были на вашем выступлении в Концертном зале Чайковского. Рядом с нами люди не сидели, а буквально катались по полу от хохота на рассказах «Срезал», «Миль пардон, мадам!» про Броньку Пупкова, стрелявшего в Гитлера, «Раскас»… И плакали. Я не представлял, что такой эффект может вызвать художественное чтение «по абонементу».
— Я вспомнил чудиков Шукшина, когда прочёл недавно о том, как в какой-то деревне под курганом два мужика пятнадцать лет строили и всё-таки построили самолёт из дерева. Это не литература — жизнь. Мало того что они вырубили из дерева самолёт вплоть до такой сложной детали, как пропеллер, — железным был только мотор от мотоцикла, который тянул этот самолёт, — он у них полетел! Мужики эти, без образования, работавшие в деревне, построили самолёт! Они летают на этом самолёте — не чудо ли? Падают, конечно, с неба, ломают себе кости, но летают, летают!..
— Но к Разину если вернуться — у вас в спектакле Разин даже более сложным, надрывным, раздираемым противоречиями получился, чем в книге… Может, потому что вы… лауреат Ленинской премии, Герой Социалистического Труда?
— При чём тут?
— Сам толком не могу объяснить. Внутреннее какое-то диссидентство. С одной стороны, внешнее по жизни благополучие, обласканность, прошу прошения, властями — и исконное народное стремление к свободе… Но не к свободе марксистско-ленинской, как к некоей непонятной толком никому «осознанной необходимости», а именно к воле, неудержимой, безумной!.. В зале, помню, жутковато становилось, мурашки бегали от вашего с казаками разгула.
— Я много о Разине читал. Историк Костомаров — о Разине: «В его душе действительно была какая-то страшная, мистическая тема. Жестокий, кровожадный, он, казалось, не имел сердца ни для других, ни даже для самого себя; чужие страдания забавляли его; свои собственные он презирал. Он был ненавистником всего, что стояло выше его. Закон, общество, церковь, всё, что связывает личные побуждения человека, всё попирала его неустрашимая воля». Без малейшего чувства сострадания, жалости… Но это не так. Разин вешал бояр на башнях, те вешали мужиков на баржах и плотах и пускали по Волге для устрашения всех остальных. Ничего не принесла народу эта кровавая бойня. Но был глоток, вдох свободы… Поднялся из кровавого, безысходного рабства человек и, разогнувшись, сказал: «Я человек, а не скот, я имею право на волю и свободу, меня нельзя продать и купить, я вольный казак! Я пришёл дать вам волю»…
— Но ведь насиловали, рубили, жгли, к лошадям привязывали, берёзами надвое разрывали!..
— Я мыслю так, что его жестокость всё же не свойство характера. Но отголоски громов борьбы, в которой победителей нет. Разин восстал против рабства. Всякого рабства… И остался Степан Разин самым поэтичным лицом в русской истории, как сказал о том Пушкин.
— Но ни слова больше о Разине не написал. Ему Пугачёва хватило.
— Я понимал, начиная работу, сложность задачи. Шукшина мучила вековая загадка этой самой русской воли, несущей в себе зерно трагедии. Он вопросом задавался мучительным: что же такое творится с русским мужиком? Даже не с точки зрения истории, а по сути, в основе характера мужика, определяющего самоощущение, мировосприятие. Ты знаешь, не был для Шукшина Разин таким уж легендарным героем, как могло показаться. Это был простой, талантливый, умный, волевой, жестокий, да и, может быть, более…
— Буйный. Настоящих буйных мало, как пел Высоцкий, вот и нету вожаков.
— И буйный. И более свободолюбивый, чем его собратья. Но вовсе не лубочно-сказочный, каким воспевался в песнях. Фигура мрачного российского средневековья. Шукшин всегда и во всём пытался постичь душу искажённую, в злом понять правого. Выйти к нравственно чистой истине. У него никогда не было и тени умиления и заискивания перед своими героями. Он вообще не заискивал ни перед людьми, ни перед временем. И был понят людьми и нужен времени. — Ульянов надолго замолчал. — Мука мученическая была играть Разина. Я не философ, не историк — актёр. И как актёр решил идти от своего эмоционального ощущения этого образа. Простой тёмный мужик, глубоко грешный, путаный, опалённый болью и состраданием к людям, он кинулся сломя голову защищать их и наводить порядок на земле Русской. А как делать это, он толком не знал — и заметался, забился в противоречиях, тупиках, страшных кровавых ошибках… Трагично столкновение в его душе двух противоположных стихий — лютой жестокости и жалости… Мука была играть такого Разина. Но и счастье редкое. Русь, жизнь, пусть страшная, но жизнь, а не историческая схема, сконструированная и приспособленная…
— На классиков марксизма-ленинизма намекаете? С их схемами, начертанными в сытой Европе?
— Ни на кого я не намекаю, Сергей, и никогда фигу в кармане не держу! — проговорил Ульянов так, что я, подобно Фролке, дал бы дёру в степь — но вокруг было море. — Я понять пытался. Шукшина. Разин идёт к добру через страдание. В котором испытывается, изламывается, истерзывается его душа. Он призывает, молит, угрожает, творит расправу над врагами и с ужасом видит, что те, ради кого он поднял восстание, отходят. Предают его. К своему страшному концу он приходит один… Знаешь, за каждый спектакль я терял килограмма два-три.
— Да я помню, как вы ночами на кухне пельмени тёти Ритины наворачивали после «Разина»…
— Физические тоже были нагрузки. Когда я в телегу впрягался и таскал её по сцене… Но другого рода нагрузки, душевные, духовные, были потяжелее. Константин Михайлович Симонов, посмотрев нашего «Степана Разина», сказал: «Ну ты уж так надрываешься, что жалко смотреть. Не сорвался бы ты в своей этой истовости»…