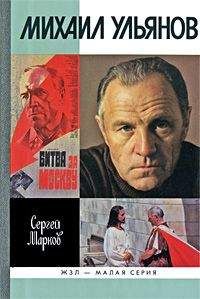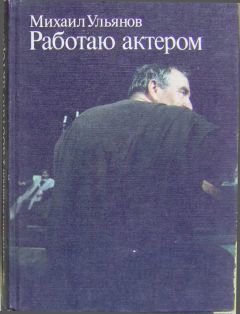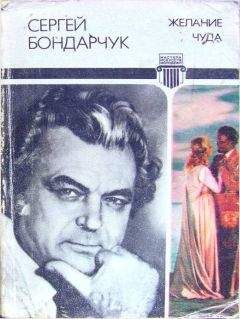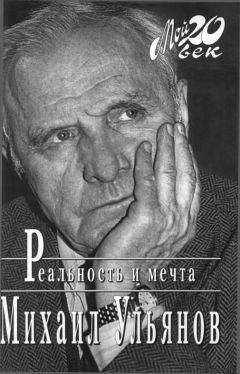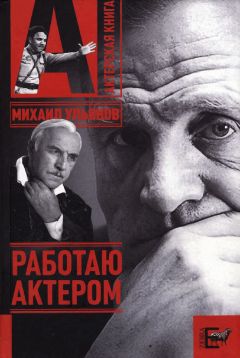— Да я помню, как вы ночами на кухне пельмени тёти Ритины наворачивали после «Разина»…
— Физические тоже были нагрузки. Когда я в телегу впрягался и таскал её по сцене… Но другого рода нагрузки, душевные, духовные, были потяжелее. Константин Михайлович Симонов, посмотрев нашего «Степана Разина», сказал: «Ну ты уж так надрываешься, что жалко смотреть. Не сорвался бы ты в своей этой истовости»…
— Мой отец, когда мы на премьере были, всё показывал мне большие пальцы то левой, то правой руки — здорово, мол, ну даёт, ну молодец Ульянов!
— Правда?.. Я не мог иначе играть эту роль — не отдавая ей всего себя. Самую для меня желанную роль… Алёша Баталов замечательно сказал как-то на моём творческом вечере: «Мы, актёры русской школы, не можем существовать от роли вдалеке: вот это — роль, а вот — я. Мы всё, что имеем, бросаем в топку роли. Сжигаем себя. В этом особенно мощно проявляется именно русская школа актёрства. Прекрасные актёры Запада, они как-то умеют отстраняться… Хочется сказать, ведут роль на холостом ходу: да, блестяще, технично, виртуозно, но не отдавая своего сердца. У нас же — свечой горит жизнь актёрская».
— Но почему же сняли-то спектакль, Михаил Александрович?
— Зрители сдержанно приняли «Разина». И в театре оказалось много неприемлющих. В их числе главный режиссер — Евгений Рубенович Симонов. Не вахтанговская всё-таки это стезя — такая эстетика, сила страстей, неприкрытость страданий… Писали критики, что сюжета, драматургии как бы нету. Шукшин сам в своём последнем интервью объяснял: «Я очень неодобрительно отношусь к сюжету вообще. Я так полагаю, что сюжет несёт мораль — непременно. Не делайте так, а делайте этак. Или: это хорошо, а это плохо. Меня поучения в искусстве настораживают».
— А как же сюжеты Шекспира, да и вообще всей мировой драматургии?
— Сняли, короче, спектакль. Но услышан я был, не услышан — вопрос другой. Для меня существенно было высказаться.
— Что-то новое… Мне казалось, что всё ваше творчество — на аудиторию. Что вы не работаете, как иные писатели — в стол. На будущее.
— Какое уж там будущее. Сняли спектакль — ничего не осталось. На плёнке даже не сохранился.
— Кстати, Михаил Александрович. А вам не приходила мысль, что Россия — страна уникальная?
— Мысль, конечно, интересная. А главное, свежая.
— В том смысле, что у нас более плодотворна, талантлива борьба за свободу, чем сама свобода…
— Может быть.
— Сколько многоточий в поэзии Пушкина… Письмах Чаадаева… Стихах Есенина… Песнях Высоцкого… Прозе того же Шукшина, Трифонова… А знаете, что ваша с Аллой Петровной подруга театровед Инна Вишневская рассказывает?
— Что она рассказывает?
— «Раз в неделю в девять утра раздаётся звонок: „Говорит Ульянов. Ты знаешь, я хочу посоветоваться. Вот говорят, государство должно обращать на нас больше внимания, давать денег — дадут, и начнётся несказанный подъём. А я вот что думаю: ну, представим себе, что всё это дали. Мы станем комфортнее жить, но не станем от этого лучше играть. Ведь у нас с государством прямо противоположные задачи: там, где они наказывают, мы прославляем. Появись сегодня Отелло или Арбенин — сидели бы от звонка до звонка, а мы их запечатлеваем как благородных людей. Но в итоге-то задача общая — исправить людей. Говоря о современности, дать вечность…“ И я каждый раз ломаю голову, что ему сказать. Казалось бы, разве трудно театроведу ответить актёру? Но с Ульяновым говорить очень трудно. Он необычайно умён — как-то талантливо умён…»
— Да ладно тебе меня расхваливать!
— Это не я.
* * *
Очертания Стамбула возникли по левому борту, как мираж, мы вглядывались, но вдруг всё исчезло в матовом тумане. Горизонт выгибался в дугу, сливался с небом, распрямлялся, коричневели берега. И вот уже фелюги рыбаков, жёлтые, голубые, красные, с рисунками. Уже угадываются поверх тускло блестящей оловом воды в золотисто-опаловом мареве дворцы, минареты, оливковые рощи.
Пришвартовались возле Галатского моста у входа в Золотой Рог.
Царьград. Константинополь. Истанбул… Впереди полдня, ночь и ещё почти день во Втором Риме, ликовало моё нутро. Это же целая жизнь! Звучала тягучая, как восточные сладости, музыка. Доносился откуда-то сверху, с минаретов, мощный поставленный голос муэдзина, усиленный микрофоном:
— Ла илаха иллаллах ва Мухаммадун разулуллах!..
— Похоже, Михаил Александрович, на то, как вы Аллу Петровну кличете, — заметил я, стоя с Ульяновым на пеленгаторной палубе. — А здесь, когда булгаковский «Бег» снимали…
— Я же говорил, в Болгарии вся туретчина снималась, на Стамбул денег не хватило.
Набережная была задымлена жаровнями. С фелюг и лотков рыбаки продавали рыбу, ещё живую и только-только уснувшую, с багровостью в жабрах, — окуней, тунцов, кефаль, барабульку, люфарь, камбалу…
Этот город, единственный в мире, расположенный на двух континентах, многие описывали. Я благодаря, разумеется, присутствию Ульянова — Чарноты Стамбул увидел и услышал с палубы «Белоруссии», как из зрительного зала, через Михаила Афанасьевича Булгакова:
«…Янычар сбоит!.. Странная симфония. Поют турецкие напевы, в них вплетается русская шарма-ночная „Разлука“, стоны уличных торговцев, гудение трамваев. И вдруг загорается Константинополь в предвечернем солнце. Виден господствующий минарет, кровли домов. Стоит необыкновенного вида сооружение, вроде карусели, над которым красуется крупная надпись на французском, английском и русском языках: „Стой! Сенсация в Константинополе! Тараканьи бега!!!“ „Русская азартная игра с дозволения полиции“. „Sensation a Constantinople! Courses des cafards“. „Races of cock-roachs!“ Сооружение окрашено флагами разных стран. Касса с надписями: „В ординаре“ и „В двойном“… Сбоку ресторан на воздухе под золотушными лаврами в кадках. Надпись: „Русский деликатес — вобла. Порция 50 пиастров“. Выше — вырезанный из фанеры и раскрашенный таракан во фраке, подающий пенящуюся кружку пива. Лаконичная надпись: „Пиво“. Выше сооружения и сзади живёт в зное своей жизнью узкий переулок: проходят турчанки в чарчафах, турки в красных фесках, иностранные моряки в белом; изредка проводят осликов с корзинами. Лавчонка с кокосовыми орехами…»
В Стамбуле много рынков. Мысырчарши — Египетский рынок пряностей. Рыбный рынок. Цветочный. Птичий, где ещё жив обычай покупать птицу, чтобы отпустить её на волю. Длинный рынок. Блошиный рынок — барахолка, где можно приобрести по дешёвке, если повезёт, пулю, которой был убит эрцгерцог Фердинанд, после чего разразилась Первая мировая война, нательный крест Гришки Распутина или галстук в горошек Ульянова (Ленина), не говоря уж о фамильных драгоценностях Романовых и акварелях Адольфа Гитлера…
Но нет ни в Стамбуле, ни во всём мире, по мнению повидавших виды моряков, равных Капалычарши — Большому крытому базару! Построен он был ещё в византийскую эпоху, средняя его часть, Бедестан, — сравнительно недавно, в 1704-м. Много раз рынок перестраивался, сгорал, разрушался землетрясениями, и всё-таки облик сохранился. Капалычарши — Гранд-базар — город в городе. Предместья, окраины, центр, проспекты, площади, тупики, мечети, фонтаны, школы, кофейни, парикмахерская, над входом в которую выведено арабской вязью, что покровительствует заведению сам брадобрей пророка Мухаммеда. Магазинов, лавочек, лавчонок, киосков, мастерских — многие тысячи!
Мы бродили по улочкам, ещё не имея опыта общения с базарными торговцами, зазывающими, заманивающими, завлекающими, залучающими, затягивающими, — отзывались («неудобно, зовёт же человек, хоть одним глазком взглянем на его товар, не убудет нас», — говорил Ульянов), осматривали, щупали, прикидывали, приценивались, примеряли, ничего пока не покупая, оставляя на завтра и производя в уме непривычные для русского склада ума манипуляции, турецкие лиры переводя в американские доллары, доллары — в советские рубли. У павильона с изделиями из кожи — куртками, плащами, жилетками — в нас вперился цепким взглядом из-под мохнатых седых бровей крепкий старик. Ни слова не говоря, он пошёл за нами следом, а я приотстал, контролируя карманы и сумки членов семейной делегации, как в Неаполе это делал Ульянов. Мы свернули налево — старик за нами. Направо — старик за нами. Остановились в обувном ряду — он встал неподалёку. Весь обратившись в слух — судя по позе, был туговат на ухо — и глядя на Ульянова.
— Жюкав! — заорал он вдруг как резаный, что прозвучало на площади, от которой лучами расходились сразу шесть торговых улочек, как «держи вора!» — Маршаль Жюкав!..
Подошёл, отдал честь, назвался кавалером ордена Красной Звезды Иштояном Гамлетом Артуровичем. По-русски старик едва изъяснялся, но почти всё, что хотел сказать, было понятно. Пошли к нему в палатку, где он работал с внучкой, носатой приземистой черноглазой девушкой лет двадцати. Иштоян сварил изумительный кофе, внучка собрала на столик угощения: сухофрукты, восточные сладости. На стене под стеклом в рамке висела групповая фотография чемпиона СССР по футболу ереванской команды «Арарат», в центре — лучший бомбардир сезона Иштоян. Торговец объяснил, как мог, что чемпион СССР — его двоюродный племянник. Сам он не был дома с ноября 1941-го, когда из Андижана был отправлен в лыжный батальон (хотя на лыжах никогда не стоял) под Москву, обороной которой командовал Георгий Константинович Жуков. Получил тяжёлое ранение, контузию. Почти год провёл в госпиталях, а едва вернулся на фронт, попал в окружение и в плен. Прошёл четыре концентрационных лагеря, трижды бежал, а четвёртый раз — уже из лагеря советского. Бельгия, Франция, Италия… Скитался по Европе до начала 1950-х, пока не разыскал дядю, и осел в Стамбуле. Женился. Кем только не работал! А теперь вот на Гранд-базаре подрабатывает к пенсии, внучка иногда помогает. Артиста, играющего в кино маршала Жукова, продолжал старик Иштоян, он сразу узнал, но не мог поверить. Какими же судьбами? Что, так просто выпустили мир посмотреть, притом всей семьёй?..