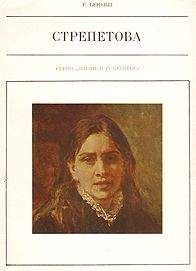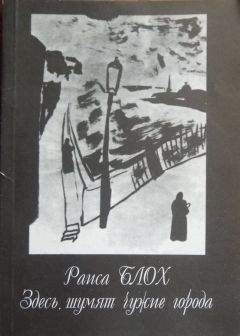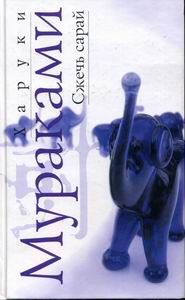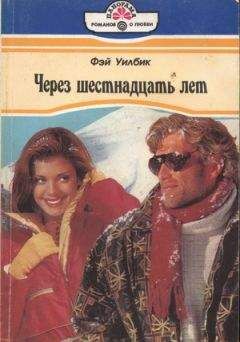Почему Стрепетова не поселилась на Невском, на Фонтанке, в прилегающих к Александринке переулках? Ведь именно там снимали квартиры почти все артисты драматической труппы. Даже те, кто был неизмеримо беднее Стрепетовой.
Не предложили? Не нашлось быстро свободной? Или, самое вероятное, никого не хотелось просить?
В угарной спешке тех дней Стрепетова не выбирала. Почти не глядя, она согласилась на то, что попалось без поисков. Сюда же поручила доставить наспех приобретенную мебель и переехала.
В этот дом на углу Лиговки и Кузнечного переулка мог бы вселить своего Рогожина сам Достоевский.
Кому пришел в голову этот нелепый проект трехэтажного здания, с приплюснутым к самому тротуару низом и абсолютно голыми, насевшими на него двумя верхними этажами?
Дом стоял не в притык, выпирая вперед острым краем. На углу, посредине повис неуклюжий балкончик. Единственный на всем фасаде. Он похож был на горб. И торчал на виду, откуда ни взглянешь.
И еще было странное: дом стоял без дверей. Сбоку, с Лиговки, пристроили ворота. Но их сделали на отшибе и по первому впечатлению входа не было вовсе. Первый этаж сдали лавочнику, и тот затянул окна тяжеленнейшими решетками.
Дом походил на сиротский приют. Или на тюрьму уездного города. Когда бывало особенно мрачно, Стрепетовой казалось, что серо-зеленое здание, унылый плоский фасад и горб на углу — чья-то злая насмешка.
Но деньги уплачены за год. Квартира не так уж плоха. (Сколько раз она жила в худших!) На переезд нужно было время и дополнительные заботы. А тут еще рядом стояла Знаменская церковь. И до Владимирского собора не дальше. Как раз на полдороге между театром и домом.
Но в театр пешком — все же далековато. Стрепетова легко уставала. Ей приходилось сберегать силы к спектаклю. Она любила забраться в театр заранее. Когда на сцене ставились декорации, а артистические уборные еще пустовали.
Она почти не гримировалась. Подкрашивала губы. Выводила четкую линию бровей. Наносила тонкий слой общего тона. Слегка подчеркивала растушовкой тени. Тени у глаз и без грима были глубокие, темные. Иногда они спускались чуть не до губ. Особенно если что-нибудь волновало.
В волнениях недостатка не было. Как писал в письме к Писареву Суворин, «Петербург солоно ей пришелся». Один случай оставил незаживающий след.
В тот вечер спектакль шел в Мариинском театре. Она условилась, что за ней приедет карета. Действительно, театральная карета остановилась у дома в Кузнечном за два часа до начала. Стрепетова была готова. Она вообще не любила, чтоб ее ждали.
Она спустилась сразу. И когда шла по лестнице, почувствовала, как все внутри становится невесомым. Она весь день жила предвкушением праздничного спектакля. Сидела у окна в своей комнате. Читала Толстого. Смотрела на легкий, светящийся снег. И чувствовала освобожденность. Ту самую, вслед за которой всегда приходил душевный подъем. И наполнение. Как будто в огромный и чистый до звона сосуд шла масса прозрачного воздуха.
И на улице было все празднично. И ясная синева сумерек, и мерцание фонарей, и стук торцов, тонущий в снегу.
С Лиговки карета выехала на Невский. Показался изгиб Екатерининского канала. Но вместо того, чтобы ехать к театру, карета свернула в одну из боковых улиц. Потом вернулась к Садовой, опять двинулась в сторону. Совсем незнакомым маршрутом завела в переулки. Снова оказалась на неизвестном проспекте, свернула еще куда-то. И так без конца.
На каждой остановке входили люди. Стрепетова хотела выйти, потребовать объяснения кучера. Но потом удивление сменилось инерцией. От холода стало нечем дышать. Окаменели иззябшие ноги. Ушло реальное ощущение времени. К театру подъехали, когда дали звонок к началу.
Стрепетова сошла почти в обмороке. Она не помнила, как натянула платье, как вышла на сцену, как справилась с частым ознобом. Ей казалось, что сердце бьется в коленях, в горле, но только не там, где положено.
Ее возили по городу около двух часов. Кучер методично собирал всех хористок, занятых в тот вечер в толпе. А исполнительница главной роли стыла в нетопленной карете. Праздник превратился в мучение.
На следующий день она заболела.
Конечно, от услуг театральной кареты пришлось отказаться. Но это-то было не страшно. Страшней было то, что весь этот глупый, трагикомический и сам по себе незначительный случай Стрепетова приняла за обдуманный вражеский выпад.
Она недооценивала своих врагов. Они не стали бы действовать так откровенно наивно. Подстраивать мелкие каверзы затем, чтоб испортить какой-то случайный спектакль. Участвовать в подстрекательстве кучера. Включать в свои планы возможность простуды актрисы.
В истории с заблудившимся транспортом было виновато не зло, а простая небрежность. Небрежность театральной администрации по отношению к первой актрисе. Небрежность проявлялась и по другим поводам. Последовательно. Часто. Намеренно.
Но закулисная оппозиция действовала иначе. Она была и более умной, и куда более опасной.
Скоро Стрепетова в этом смогла убедиться.
Малейшее осложнение выводило из строя.
К тридцати годам нервная возбудимость граничила с открытой истерией. Все годы ей не давала покоя зыбкость, нестойкость ее положения, расплывчатость будущего. Ей хотелось стабильности, твердой почвы, законной и прочной службы.
Она успела устать от скитаний, случайных, хотя и больших гонораров. Ей хотелось, как всем, получать по определенным числам положенное ей жалованье. Жить в одном городе. Сосредоточенно и непрерывно работать. Воспитывать сына. Все это могла дать только казенная сцена.
Теперь пришла служба в театре, постоянство, годичный контракт, восемь тысяч годового жалованья, сын рядом. Восхитительный пятилетний сын, поражавший всех прелестью, умом, недетской чуткостью.
А покоя все равно не было.
Огромный механизм императорского театра, заведенный раз навсегда, вертелся по часовой стрелке, в одном направлении. Стоило кому-нибудь пойти против движения, как в борьбу с человеком вступала мощная, хорошо управляемая система.
Стрепетовой сопротивлялась система. Но она этого не понимала. Все стычки с администрацией, все недоброжелательство труппы, все нападки печати Стрепетова соединяла с именем Савиной.
Они встретились во второй раз. Между этими двумя встречами, которые нельзя вычеркнуть из истории русского театра, минуло целое десятилетие. Ни для одной из соперниц оно не прошло даром.
В Александринском театре у Савиной было особое положение.
Она стремилась к власти и, получив власть, ни с кем не хотела ее делить.
Ее называли диктатором, директором в юбке, александринским министром. И в этих немного насмешливых кличках была и дань уважения к действительно министерскому уму актрисы.
Ее искусство любила широкая публика. Но оно импонировало и избранной части общества. Оно было в меру демократично, но и изысканно. И потому нравилось снобам, вообще относившимся свысока ко всему, кроме импортных развлечений.
Савина создавала блестящие, полные непосредственной прелести, психологически тонкие образы в пьесах Тургенева, Островского, Гоголя. Интеллигенция высоко ценила эти создания. Но актриса с не меньшим блеском играла ремесленные комедии с банальным сюжетом, совсем незначительным содержанием и непременной эффектной концовкой под занавес. И именно эти, ничтожные, а порой откровенно пошлые и фальшивые роли были причиной успеха у обывателей.
На «Душевную канитель» (а так называлась одна из пьес савинского репертуара) тратила многие годы актриса высокой культуры, большого ума и тонкого, многостороннего таланта.
Она умела варьировать свои отношения с публикой. И ладила с ложами так же легко, как с верхними ярусами. На ее бенефисы съезжался весь свет. И кто-то в газете кокетливо пошутил, что в Санкт-Петербурге установилась традиция заказывать новый фрак к рождеству, к светлой пасхе и к бенефису г-жи Савиной.
Шутка пришлась ей по вкусу.
О ней очень точно сказал много лет наблюдавший за ней Ю. М. Юрьев.
«Мария Гавриловна Савина царила на сцене — любила царить и умела царить. „Сцена — моя жизнь“ — вот ее девиз, и она крепко держалась за эту свою жизнь, хотела иметь в ней большое значение и успех, прекрасно сознавала, что у нее на то все права».
Стоило кому-нибудь в этих правах усомниться, как Савина тотчас давала их чувствовать. И уж тогда противнику устоять на ногах удавалось не часто.
«За кулисами велась борьба, борьба за власть, за влияние. Нужно было быть всегда начеку. Ее выдающийся ум, скорее мужского склада, давал ей возможность хорошо ориентироваться в закулисной жизни. Она знала каждого наизусть, видела всех насквозь, предугадывала их намерения и вовремя нажимала необходимые кнопки сложнейшего театрального механизма и всегда выходила победительницей из каждого затруднительного положения, как самый искусный шахматный игрок».