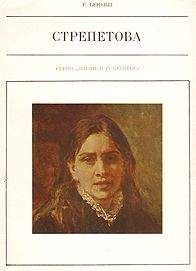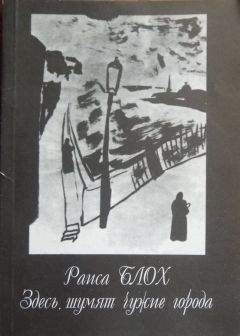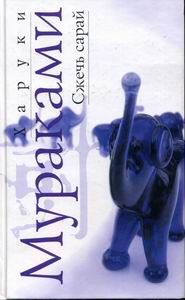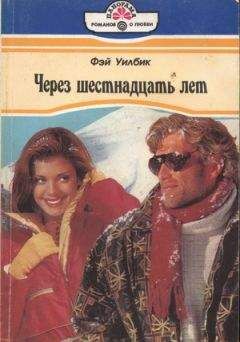Партия, которую предстояло сыграть со Стрепетовой, была, вероятно, наиболее сложной за долгое время. Но партнер облегчал задачу.
Маниакальная правдивость Стрепетовой, ее нетерпеливость и внешняя взрывчатость, при страшной внутренней уязвленности, исключали стратегическую борьбу с продуманными ходами, обходными маневрами, умением выбрать минуту для нападения. Она набрасывалась, когда почти не было повода для обиды, и уходила в себя, зажималась, теряла способность к сопротивлению, если удар был серьезен.
Удары были серьезными и сыпались один за другим.
Стрепетову борьба изнуряла. Савиной — оттачивала оружие. Стихией борьбы она управляла умело и точно предвидела выгоды долгой осады.
Их положение было неравным во всем.
Савина оставалась негласной хозяйкой театра. С ней согласовывали репертуар. Она сама назначала исполнителей. К ней в дом петербургские литераторы привозили новые свои сочинения. К этому сознанию власти постепенно привыкла Савина. В ее артистическую уборную, которой она придала во всем ей присущую элегантность, входили только по ее приглашению. Здоровались с ней с особой почтительностью. Ее остроты, а они были злы, но изящны, передавались из уст в уста. Она приходила в театр, как в собственную квартиру, где все ей подчинено и весь распорядок сообразуется только с ее расписанием дня и удобствами.
Стрепетова же с первого дня — и это чувство не проходило, а даже усиливалось — сознавала себя в театре чужой. «Она как будто лишняя, посторонняя, — точно гостья, приехавшая на 5–6 спектаклей», — написал про нее Островский. И с минуты, когда она входила в служебный подъезд, если она не была на сцене, она почему-то ждала неприятности, дерзости, напоминания о том, что она посторонняя.
На сцене две эти соперницы не встречались. Репертуар их был разграничен. И даже актеры, распределявшие исполнителей в свой бенефис и знавшие, что отказывать бенефицианту не принято, старались не сталкивать Стрепетову и Савину в одной пьесе.
Когда же они иногда попадались друг друг в фойе, за кулисами, различие между ними бросалось в глаза.
Все у Савиной было изящно, продуманно, строго и лучшего тона. Она выбирала свои туалеты с безукоризненным вкусом. Они были сшиты у первоклассных портних, по последним парижским картинкам. Их линия, мягкость, гармония цвета и формы — все было красиво и безупречно по точности стиля.
От туфель, легчайших и облегающих ногу, до рюша на платье или тончайшей цепочки, на которой висели часики, придирчивый глаз не нашел бы малейшей погрешности. Недаром же светские дамы так часто брали за образец костюмы александрийской премьерши.
И эти костюмы, и запах французских духов, чуть пряный и нежный, и легкость упругой походки, и непринужденность манер, и светская, ни к чему не обязывающая приветливость — все словно нарочно подчеркивало обыденность, неказистость, кургузость всей внешности Стрепетовой.
Когда они случайно оказывались рядом, Стрепетову могли бы принять за учительницу, а то и экономку у аристократической дамы.
И эта уверенная в себе и в своем превосходстве аристократка невольно глядела чуть свысока, понимая свои преимущества.
Но на вернисаже очередной выставки передвижников, в изысканнейшем из своих дорогих туалетов, окруженная группой поклонников, таких же изысканных и блестящих, известных всему Петербургу, Савина теряла это нужное ей ощущение своего превосходства.
И хотя все ее узнавали, и все спрашивали об ее мнении, и ее меткие афоризмы имели успех, ее неудержимо влекло к стене, где висел скромный портрет соперницы, написанный Ярошенко.
На серо-коричневом тусклом фоне едва проступала узенькая фигура полуподростка-полуженщины. Под небрежными складками темной и простенькой шали слегка выпирали вперед угловатые тонкие плечи. Неловко и как-то простонародно наивно поникли, как будто их некуда деть, сцепленные вместе, лопаточкой, совсем неактерские руки.
И будничность платья, и скромность нечаянной позы, и гладкий, почти незаметный браслет у запястья, и маленькая широковатая кисть с плоско срезанными, необихоженными ногтями таили в себе чистоту, ненарочность, неброскую и одухотворенную тайну.
Тайна притягивала в лице, бледном и строгом. И в резко очерченной линии сомкнутых губ. В упрямстве слегка заостренного подбородка, опущенного на кружевце белого, круглого, без тени кокетства воротничка.
Но особенно привлекали глаза. Устремленные внутрь, перестрадавшие, почти спокойные и оттого еще больше поражающие трагизмом.
Об этом портрете, имевшем большой успех, но и вызвавшем споры, Крамской написал в письме своему адресату.
«Вы говорите: „Это безобразно!“ И я понимаю, что Вы ищете тут то, что Вы видели иногда у Стрепетовой, делающее ее не только интересной, но замечательно красивой и привлекательной.
И, несмотря на то, я утверждаю, что портрет самый замечательный у Ярошенко, это в живописи то же, что в литературе портрет, написанный Достоевским. Хорошо это или дурно, — я не знаю; дурно для современников, но когда мы все сойдем со сцены, то я решаюсь пророчествовать, что портрет Стрепетовой будет останавливать каждого. Ему не будет возможности и знать, верно ли это, и так ли ее знали живые, но всякий будет видеть, какой глубокий трагизм выражен в глазах, какое безысходное страдание было в жизни этого человека…»
И еще спустя год, опять возвращаясь к мыслям об этом портрете, Крамской досказал:
«Я хотел сказать, что когда все те, кто видал живую Стрепетову, сойдут со сцены, то зритель будущего оценит трагизм (слово не только громкое в данном случае) в этом этюде, оценит исполнительскую сторону — все детали подчинены общему… Как портрет, вещь Ярошенко оставляет много желать, а как мысль художника, написанная по поводу Стрепетовой, — почти без критики».
Савина, с ее умом, наблюдательностью, врожденным чувством искусства и воспитанным вкусом, явно угадывала мысль художника и видела ее глубину. И смешное, неуклюжее, жалкое, что она замечала при встречах в театре, отступало. А с портрета смотрел значительный в своей простоте и незаурядный даже в страдании человек, перед которым все привилегии Савиной оказывались ничтожными пустяками.
Но от этого неприязнь не проходила, а скорее усиливалась. И рождалась недобрая, иногда укрываемая от собственной совести, но безудержная потребность еще раз показать свою силу, ущемить и унизить стоявшую на пути Стрепетову.
Фактически Стрепетова на пути вовсе и не стояла. Им нечего было делить друг с другом. Каждая владела своей независимой от другой сферой и каждой доставался успех, на который бессмысленно было претендовать второй. Но они ничего не хотели делить, и вражда, разгораясь, затмевала обеим и разум, и их человеческое достоинство.
Все, что составляло реальные преимущества Савиной, Стрепетова замечать не хотела.
Исполнительский блеск, многоцветность, изящество мелких деталей ей казались мишурными. Она не пыталась увидеть и даже легко отвергала то, что она про себя сводила к украшениям. Самые тонкие напластования чувств, переливы, полутона, которыми изощренно владела Савина, Стрепетова называла побрякушками, к которым относилась с презрением.
Савина, видевшая, что главные роли соперницы все те же, считала, что незачем их и смотреть. Хватит с нее впечатлений Орла и Казани. Ей казалось, что Стрепетова вечно «талдычит», как она говорила, одно и то же. И ее раздражало, что зал вдруг неистовствует и людей потрясает все то, что казалось ей пройденным, давно надоевшим и грубым для нынешных вкусов. И она перечеркивала в душе и считала ненужным то, чего не умела, что не было ей дано.
А между тем десять лет изменили обеих.
Стрепетова растрачивала себя безрассудно, нещадно и часто напрасно. Она так торопилась выплеснуть свой огромный талант, будто над ней уже кто-то занес топор, который в любой день мог оборвать ее жизнь.
Савина в это время набирала дыхание, всегда точно зная, чего она хочет и на каком перекрестке свернет. Мастерство Савиной — гибкое, восприимчивое, проверенное легко откликалось на новое слово в искусстве. Она приглядывалась и быстро усваивала новые формы сценической выразительности.
Стрепетова, неизмеримо более глубокая в своей постоянной сфере, за ее пределами становилась беспомощной, ученически робкой, а то и смешной. Она жертвенно, одержимо, но и фанатически ограниченно служила одним идеям, одной постоянной теме, одному способу отражения жизни. И в этом дошла за десятилетие до самых вершин.
Савина, с ее прозорливым умом и гигантской, почти чудодейственной работоспособностью, без устали искала свежие пути, меняла изобразительные приемы, обогащала свое мастерство. К основному творческому капиталу она добавляла и новые ценности, и с ними обходилась умело и бережливо, не давая уплыть по течению. Она не поняла да и не очень интересовалась величием Стрепетовой. Но видела ее слабости и, помня ее победу десятилетней давности, готовилась взять реванш.