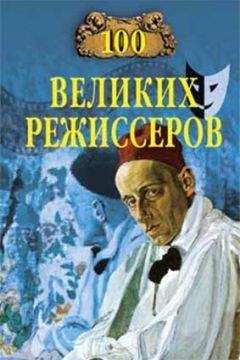Там, на нижней палубе, ехали совсем другие люди — эмигранты, можно было бы сойти вниз, но судно между классами перекрыто, никто не сделает для него исключения, а хорошо бы поговорить, нельзя, пользуясь счастьем, быть до конца свободным, нельзя чувствовать себя привилегированным.
А, собственно, почему нельзя? И давно ли возникло в нем такое неудобное чувство причастности к другим, попросту сострадания? Очень давно, еще в Бердичеве, Киеве, Ромнах, революция здесь ни при чем, только отец, который умел жалеть.
Огромная тень отца легла на поверхность океана, он плыл рядом с кораблем.
Он становился все больше похож на отца и если говорил сейчас с кем, то не с самим собой, а с Яковом Рувимовичем:
— Видишь, как медленно ползет по поверхности океана твой сын? Со скоростью сорок узлов в час. Всё потому, что я не хочу спешить, лучше побыть с тобой подольше.
Нет, конечно, у него была в запасе неплохая пьеса Коли Никитина, одного из ленинградских серапионов, очаровательного парня, но такого же неумелого драматурга, что и остальные. С замечательной ролью для Алисы, он читал ей отдельные сцены, она радовалась. Сыграть приблуду, Мурку, беспризорницу, шаляй-валяй со стройки, представлялось ей соблазнительным.
Да, изменились времена. Когда-то ее нелегко было увлечь даже Жанной д’Арк. Требовала другой перевод, другую редакцию текста, костюм не нравился, а теперь полуголая замызганная Мурка занимала ее воображение. А ведь Никитин не Расин, не Островский, даже не Шоу, совсем другой слух, другие слова и очень-очень сложное время.
Они бродили по Европе мимо костелов, в которых предавали анафеме его власть за то, что в своей стране она издевается над Богом, над простыми людьми.
Что они знают о его стране, что понимают в ней?
И Луначарский, и Литвинов, и много-много его друзей говорили, что она вырвется, несмотря ни на что, говорили увлеченно, головы готовы были положить, чтобы она вырвалась, и он верил им.
Ему не было дела до внутрипартийной борьбы, он в нее не собирался вникать, достаточно газет. Какие возникали в нем мысли, никого не касается. Как возникали, так и исчезали. Он никогда не был в партии и не собирался быть, те же его друзья дали понять, что лучше этого не делать. Художник должен оставаться художником.
— Не надо пачкаться в нашем дерьме, — попросту говорил Литвинов, и это было не грубо, а честно. — Не надо влезать в чужие проблемы, ставишь себе спектакль и ставь, это, наверное, не так трудно, как руководить государством, но тоже очень непросто.
Да, отец, ты прав, счастливая жизнь, очень-очень счастливая жизнь.
Они плыли уже несколько недель, позади — маленький испанский город Виго, где они сошли на берег, и Таиров, подхватив маленькую босоногую смугляночку, расцеловал ее в обе щеки, восклицая:
— Всю жизнь мечтал поцеловать испанку!
Воплощалось всё, о чем он мечтал, вот переплыл океан, и всё это благодаря Алисе, и так будет всегда, удача рядом с ней, она сама — удача, но месяц путешествия даже на самом комфортабельном судне — все-таки месяц, и они всю дорогу занимались тем, что забавляли себя и команду.
Выяснилось, что на следующий месяц их усилий хватит. Они были неплохие жонглеры, ловкие акробаты, отличные фехтовальщики. Они пели так хорошо, что заслушивался океан, и женщины успевали строить глазки команде очень умело, как в спектаклях, чтобы не заметили мужчины.
А мужчины вели себя надменно, тоже как в спектаклях, и делали вид, что не замечают. И Алиса, выйдя на палубу, смеялась над их играми, а потом загрустила — ей хотелось показать, как надо танцевать на океанском судне под открытым небом, но не было Церетелли. Александр Яковлевич попытался его заменить, но после первых же минут с трудом опустился в шезлонг.
Все-таки совсем неплохо играть не самую главную роль в поставленном спектакле — долгом путешествии через океан на судне «Груа».
Они могли резвиться, кричать сколько угодно, океан поглотит их смех, их крики, всё останется здесь, в океане — искусство артистов, аплодисменты, команды, всё будет поглощено океаном, чтобы остаться под звездами навсегда.
А вот Рио не забыть. Им не разрешили играть в Рио, в городе был очередной военный мятеж, сбылись прогнозы Литвинова, но сам Рио от этого не стал хуже, и конечно смущенно разводящий руками Альберти был ни в чем не виноват, он всё устроил, вот, смотрите, всюду плакаты, и вдруг мятеж.
— Почему на плакатах медведь с тесаком? — спросил Таиров. — У нас нет такого спектакля.
— Чтоб было понятно, — объяснил, уже совсем обливаясь потом, Альберти, — все-таки вы прибыли из России.
Труппа радовалась. Да как угодно, хоть медведем, лишь бы побродить по Копакабане, где мальчишки подходят близко-близко и заглядывают артисткам за корсет, и после обязательно что-нибудь из сумочки пропадает, где, пока ты сидишь на берегу и ешь мороженое за невысокой оградой из бамбука, по другую сторону ограды специально для тебя немолодые люди танцуют самбу, и руки тянутся к тебе из-за ограды и требуют раскошелиться. А мулатки, высокие, с округлым задом, небольшой грудью и совсем уже крошечной головкой, тянущие за собой по берегу на поводке розовых пантер, а волна невидимая, пока ты плывешь лицом в воду, и вдруг возникшая стеной вдоль горизонта, будто из-под судна, грозящая поглотить всю твою группу, где все неожиданно начинают казаться крошечными. Даже Фенин, гордящийся своим ростом.
И Алиса, вспомнив о своих фламандских корнях и решившись продемонстрировать, как она умеет нырять, бросается навстречу волне, исчезает тут же, и он, понимая, что она не вернется никогда, бросается следом, но волна возвращает Алису, отступая, откуда-то с самого дна, напуганную, с перехваченным дыханием, еще минуту назад вбитую в песок по горло, но живую!
Канонада над Рио, команды с солдатами на узких улочках, выходящих к пляжу.
— Не обращайте внимания, — улыбаясь, говорит Альберти. — Это у них перманентно. Как у вашего Троцкого.
Напоминание о Троцком необязательно. Альберти не бразилец, он аргентинец, а в Аргентине — революции реже, раз в пять лет, чтобы потом уже надолго.
В Аргентине — военная диктатура, и гораздо уверенней и строже люди, они не останавливают движение на улице, чтобы, выйдя из машин и экипажей, посмотреть вслед одной-единственной женщине, идущей по другой стороне, но какой женщине!
В Аргентине танцуют танго, оно звучит всегда, постоянно, с утра до утра, на центральных улицах через репродукторы, в кафе из оркестров, в домах из граммофонов, оно напоминает аргентинцам, что они именно аргентинцы, это музыка только для них.
Танго в Камерном — музыка родная, и они танцуют вместе со всеми прямо на улицах. И странно: аргентинцы едва сдерживают улыбки, глядя, как они танцуют. Танго надо танцевать вглубь себя самого, во тьму отношений с партнером, танец, накапливающий страсть, а не раздающий, не на публику, а только на двоих, с капелькой крови на губах. Они смотрят, они догадываются, они танцуют хуже, чем аргентинцы, зато они лучше играют «Саломею» двенадцать раз подряд, каждый вечер.
На их спектаклях толпы, люди узнают их на улицах, хватают за руки, треплют по щекам: «Вива, Камерный, вива, Таиров, вива, сеньора Алиса!»
Популярность Алисы здесь не меньше, чем у диктатора Урибуру… разница только в том, что его боятся, а Алису любят.
— Я здесь у себя, — говорит она Таирову.
Кто-то из местных нагадал ей, что в прошлой жизни, тысячу лет назад, она родилась шаманом в Мексике, и, несмотря на то, что она почему-то родилась мужчиной, нет женщины прекраснее ее, и нет мужчины в Буэнос-Айросе, не способного это понять.
— Сеньор Таиров, — спрашивает полная дама в сильно декольтированном легком платье, — сеньор Таиров, мы с вами случайно не родственники, я тоже Таирова, ведь вы — армянин?
Она поворачивается к нему в профиль своим крупным носом с горбинкой. Они похожи.
— К сожалению, нет, — говорит Таиров. — Но у меня много армянских друзей в России.
Он вспоминает Якулова.
— А может быть, вы все-таки армянин? — умоляюще спрашивает его женщина. — Нас здесь несколько Таировых, мы хотели бы встретиться с вами в ресторане, посидеть, возьмите с собой сеньору Коонен.
Он все так же, смеясь, начинает убеждать ее, что вовсе он не Таиров, во всяком случае, не совсем такой Таиров, как вдруг понимает, что находится на той самой земле, куда еще до революции уехал его родной дядя, брат Якова Рувимовича, и фамилия дяди была вовсе не Таиров, а Коренблит.
Он объясняет этой пышной даме, что, к сожалению, не сможет встретиться с Таировыми, готов пригласить их всех на спектакль, ах, они уже видели, и что же, почему не посмотреть еще раз, а сам вспоминает, что он Коренблит, как его дядя, а фамилия Таиров, сочиненная им самим, казалось, никому, кроме него, не принадлежит, а поди ж ты, на свете, оказывается, много Таировых и все они армяне.