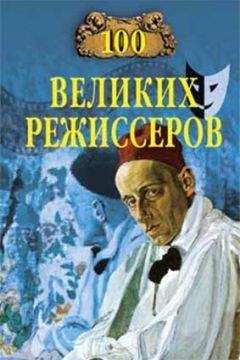Главным было не задумываться, а играть, играть, говорить только об эстетике и о политике в связи с эстетикой — только, мол, в СССР возможно такое свободное театральное искусство. На все остальные вопросы, по возможности, отвечать кратко и невразумительно, а лучше совсем не отвечать.
— Жалко, что с нами не будет Церетелли, — неожиданно сказала Алиса. — Прости меня, но тебе не кажется, что ты погорячился. Ну, опоздал, ну, задержали бы спектакль на несколько минут.
— Прекрати немедленно! — Голос Александра Яковлевича в минуты гнева начинал звучать фальцетом. — Никому, даже тебе, никаким Церетелли не позволено опаздывать на спектакли Камерного театра. Здесь не может быть исключений — он поднял руку на своего товарища и изгнан из театра правильно.
Таиров имел в виду, что, когда Церетелли опоздал на «Любовь под вязами», он немедленно велел заменить его студентом школы Чаплыгиным, и Церетелли, влетев за пять минут до начала в гримуборную, буквально оттер студента от гримировального столика.
— Немедленно уходите, — сказал тогда Таиров, бледнея. — Я не могу вас видеть.
И Церетелли, забыв о собственном отчаяньи, глядя на мертвую от гнева белую маску таировского лица, что-то пробормотал и выскочил из гримуборной.
Что творилось в душе Таирова, понимавшего, что Церетелли больше не вернется! Не надо было возвращать тогда, на юбилее, — кто способен уйти один раз, обязательно уйдет в другой.
В своей дисциплинарной прыти он даже потребовал немедленно уволить Коонен из театра, когда она заговорила с кем-то во время репетиции. Позже выяснилось, что она решила объяснить партнеру сказанное Таировым.
Что бы он делал без Алисы?!
— Пожалуйста, Алиса, — сказал он. — Никогда не напоминай мне о Николае.
Они уехали.
И Лейпциг оказался хорошим, и Прага прекрасной. Таиров крутился и, когда его спрашивали, почему в репертуаре нет ни одной советской пьесы, отвечал, что пьесы есть, но все еще впереди, не последние же это гастроли.
Он бил Европу ее же оружием, Европа должна была увидеть себя глазами Камерного театра и аплодировать его представлению о ней. Так почему-то и получалось. Вторжение Камерного театра все-таки было безопасней вторжения самих Советов и воспринималось безболезненно.
Иногда казалось, что в мире нет других дел, кроме искусства, люди так трогательно расспрашивали о том, как работает Таиров, что казалось, получи ответы на эти вопросы, и не было бы никаких проблем у Литвинова.
Одни мирные предложения.
Но всё было несколько иначе. В Италии их встретили хмуро, не стараясь демонстрировать классическое итальянское радушие, и только «Гроза» и Алиса в «Грозе» сделали чудо, Таиров мог быть удовлетворен.
Даже мэр Милана пришел на спектакль.
— Черт возьми, синьор Таиров, — сказал он. — Вы молодец. Ваша жена заставила мою плакать, а это, поверьте, совсем непросто.
Италия чем-то напоминала их собственную страну — все озабоченно копошатся, над всем чувствуется чье-то нетерпение и сильная воля. Вообще, если приглядеться, все государства в каждый определенный период истории чем-то похожи. Почти как родственники, дальние, близкие, несмотря на классовую ненависть друг к другу, и, казалось бы, далекий от советского общий стиль европейской жизни как бы проникает в Москву, а оттуда приходит в Европу грубоватый дух каких-то бесшабашных решений, дерзких перемен, от которых хотелось ежиться, но не считаться с ними было нельзя. Государства, как люди, вообще склонны к подражанию. Европа одним ухом слушала СССР, СССР в попытке отгородиться прислушивался к Европе, всё услышанное крутилось в воздухе и обещало когда-нибудь невероятную бучу.
Так что самым стабильным явлением в мире оказался Камерный театр. Так, во всяком случае, считал Таиров. И не он один.
Пришел в Париже за кулисы растревоженный Юджин О’Нил, говорил, что боялся смотреть свои пьесы, а теперь видит, что лучше поставить нельзя.
Он стоял перед ними, смущенный собственным восторгом, на него в эти минуты нельзя было смотреть, а глаз оторвать тоже было нельзя. А еще Таиров созвал всех актеров — пусть услышат, что о них говорит лауреат Нобелевской премии, и тогда О’Нил окончательно сбился, виновато улыбнулся, еще раз поблагодарил и сказал, что ему легче писать о любви, чем говорить о ней публично, он обязательно напишет Таирову. И написал. Это было одно из самых чудесных признаний Камерному театру. Не исключено, что одно из тех писем, что стали в бывшем Камерном реквизитом, и оказалось случайно в руках Владимира Высоцкого.
Всё было хорошо, но жизнь в гастролях представлялась такой долгой, хотелось обжиться и забыть всё плохое, но тут пришло известие о смерти Маяковского — родина не давала себя забыть. Таиров было бросился разыскивать Мейерхольда, он представлял, каково тому сейчас, у Таирова не было своего автора, а Маяковский мог считаться Мейерхольду чуть ли не братом, так они были близки.
Тому самому Мейерхольду, что, проходя в двадцать четвертом с толпой учеников мимо Камерного, высокий, грозный, всем известный человек, вдруг закричал:
— Бежим! Таиров хочет убить меня!
И все побежали за ним и бежали долго, пока он не остановился и с невозмутимым лицом, будто и не было этого крика, повел их дальше. Старый гаер!
Но потом Таиров услышал, как кто-то из своих, кажется, Ценин, сказал:
— Не надо было «Баню» так бездарно ставить, тогда не застрелился бы.
Это по форме циничное заявление было резонным по сути, и Таиров не стал звонить в Ниццу, где лечился Мейерхольд, и часто потом укорял себя за то, что не поддался первому желанию. Возможно, только смерть Маяковского и могла что-то изменить в их отношениях.
Мейерхольд, конечно, нисколько в ней не виноват — у кого не было неудач? Маяковский застрелился из-за чего-то другого, о чем в таировском сердце не было никаких догадок, и он бросился к Алисе с просьбой объяснить или хотя бы поговорить о поэте.
— Это лишние знания, — сказала Алиса. — О чем ты спрашиваешь? Просто ему ужасно не везло с женщинами.
Она была права, Маяковскому не везло, а ему вот везло почему-то, как и многим другим. Это, наверное, потому, что встреча с женщинами у многих как бы укладывалась в рамки общего с ними дела, когда женщины перестают быть возлюбленными, а становятся друзьями.
В этот вечер шел «День и ночь», и Таиров, стоя как обычно в кулисах, чтобы подзадорить актеров, чувствовал, что ему невмоготу смотреть и приходится все время отворачивать лицо, что актеры не играют, а кривляются, что публика смеется невпопад, ничего не понимая, что Маяковский застрелился не по причине неразделенной любви, а по какой-то их общей вине, чуть ли не по вине самого Таирова.
После провала «Бани» он не удержался и предложил Маяковскому написать для них пьесу. Тот как-то угрюмо посмотрел на него сверху вниз и согласился, думая, наверное, в этот момент о чем-то своем. Пьеса должна была быть о любви, трагедия, с ролью для Алисы.
— Только обязательно, чтобы ваша жена играла, — сказал Маяковский. — Она хорошая актриса.
Таиров с надеждой подумал, что о любви Маяковский согласился бы написать сам, без принуждения, не нужно было даже слишком определенно связывать это с так называемым текущим моментом. Вину на себя взял бы Таиров, но Маяковского уже нет, а о содержании пьесы не узнать.
Они были в Риме, где с соболезнованиями явились за кулисы бывшие итальянские футуристы, облезлые немолодые люди, и среди них самый облезлый, маленький, толстый, седеющий Маринетти, казалось, забыл о своих фашистских пристрастиях, пожимая Таирову руку. Он был очень предан фашизму, его стоило остерегаться, но руку он пожал как очень встревоженный смертью Маяковского человек.
Нет, всё в мире, безусловно, начинало походить друг на друга. А может быть, это запах глициний, флорентийской весны?
— Солнышко, — мечтательно говорила Алиса и ходила, ходила одна по городу, пока Таиров давал бесконечные интервью и встречался с компетентными в вопросах искусства людьми.
Он поглядывал в окна, отвечая на вопросы, и представлял, как она там ходит одна, потому что редко кто из актеров согласился бы составить ей компанию, разве что Церетелли. Тот был Алисе хорошим попутчиком, но Церетелли нет, и Чаплыгин, конечно, играет в «Любви под вязами» хуже Церетелли, но здесь уже ничего не поделаешь.
В Антверпене их ждали могучие неприятности, они приехали сюда из Брюсселя, где играли спектакли в зале, набитом не только публикой, но и полицией. Может быть, их особенно испугало, что Алиса — фламандка? Неизвестно. Только победить нерасположение к себе в этой стране, лишенной с Советами каких бы то ни было дипломатических отношений, было особенно трудно. Они победили, беда обошла их в Брюсселе, но настигла в Антверпене. Сменивший Маркхольма бельгийский продюсер удрал, забрав с собой всю выручку, не только брюссельскую, но и антверпенскую, где они должны были сыграть несколько спектаклей перед тем, как сесть на корабль и отправиться в Южную Америку.