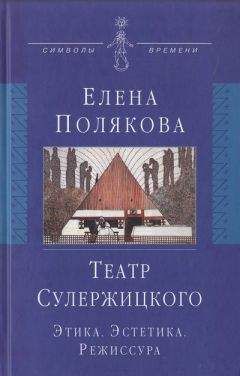На полированном столике заблестели две капли. По щекам хозяина катились слезы. По-немецки, ударяя на каждом слоге, он тихо сказал:
— Я люблю ее.
И всхлипнул.
Вспомнив, как она, вертя юбочкой, трепала на репетициях ассистента Макса Рейнхардта по щеке, гость понял, о ком идет речь. На реплику хозяина он ответил неопределенным восклицанием и, выждав приличную паузу, заговорил о метре, руководившем их театром. Не поднимая головы и не отирая слез, хозяин дома дал ему понять, что он сам не хуже Рейнхардта. Только тому, мол, везет, а ему, доктору S., нет. Михаил Чехов завел разговор о театральном искусстве, об актерах и режиссерах. Хозяин дома сказал, что любит режиссуру потому, что она дает ему власть над другими работниками театра. Чехову стало жалко его. Вспомнился Вахтангов, считавший, что тех, кто любит ответственное положение ради удовольствия держать других в подчинении, лучше совсем не ставить в такое положение.
Поговорили еще о том, о другом. Потом доктор проводил Михаила Александровича до дому, и как-то так получилось, что они с тех пор даже вроде «сдружились». Но когда, уже в Берлине, ассистируя Максу Рейнхардту в другой его постановке, доктор S. начал проявлять власть над старым седым актером, игравшим лакея, Чехов устроил ему скандал тут же на сцене.
На том «дружба» их кончилась.
Макс Рейнхардт
Новый метр Чехова был знаменит и, что называется, знал себе цену. Бегло излагая историю театра новых времен, он вполне серьезно, без улыбки сказал однажды Михаилу Чехову:
— Был Икс. Петом пришел Игрек. Его сменил Зет. Потом пришел Я.
Постановки свои он продумывал в одиночестве, у себя в кабинете. Записывал мизансцены, общий план постановки, детали игры. По его указаниям доктора-ассистенты вели подготовительную работу с актерами. Затем появлялся сам профессор (всегда поздно, почти к концу репетиции). Доктора-ассистенты отходили на задний план, а актеры, хотя и утомленные, бодрились и работали еще много часов. Правда, это не мешало некоторым из них, в особенности пожилым и почтенным, в каждую «свободную» минуту решать кроссворды и читать газеты, которыми были набиты их карманы. Но все же общая атмосфера репетиции поднималась. Рейнхардт обычно говорил мало, но актеры сами вычитывали в его выразительном (и всегда чуть смеющемся) взгляде либо похвалу, либо осуждение себе.
Наблюдая за ним, Михаил Чехов заметил: профессор не только смотрел на актеров и слушал их. Он непрестанно играл и говорил за них внутренне. Актеры чувствовали это и старались угадать, чего хочет герр профессор от них. Это возбуждало их актерское честолюбие, желание достигнуть того, что могло бы удовлетворить Рейнхардта. Они делали внутренние усилия, и роли их подчас быстро росли. Так молча режиссировал Рейнхардт одним своим присутствием, одним своим взглядом и порой достигал больших результатов.
Чехов поражался интуиции Макса Рейнхардта, его богатой фантазии и театральной выдумке. Профессор умел, если нужно, блестяще сыграть перед актером его роль, проговорить его текст. Он увлекал своих подопечных умением каждое произнесенное им слово наполнить особой выразительностью. Умел придавать своей речи упругость и пластичность, пользоваться словами то как живописец красками, то как музыкант звуками, сочетая их в мелодии. Это было всегда ярко, разнообразно, талантливо.
Но передать силу своего таланта нельзя, можно передать только школу. А школы Макс Рейнхардт не создал. Дать актеру объективные знания сценических законов, снабдить его техническими средствами для решения художественной задачи, как это сделал Станиславский, Рейнхардт не смог.
Сам будучи актером, Михаил Чехов знал: его коллеги по искусству любят «ловко» произнесенные слова. Но в большинстве своем они сами не знают, чем достигается этот эффект. В силу своего таланта Рейнхардт мастерски владел даже отдельными звуками речи и был способен прочесть актеру слова его роли так, что, казалось, укажи он пути к развитию этого искусства выразительного слова, и начнется новая эра в театре. Но он не указал этих путей. У Макса Рейнхардта имелись, как понял Чехов, на основе своих почти трехлетних наблюдений, свои собственные, рейнхардтовские, приемы и привычки, которыми он пользовался, сам не постигая их значения. Чехов высоко ценит его талант, называет последним представителем театра «милостью божьей». Но тут же говорит:
— Какую самоуверенность надо иметь современному актеру, чтобы, отказавшись от школы, от знаний, от упорной работы, полагаться, как Рейнхардт, на гений, на случайные вспышки интуиции!
В письме к другу-актеру и художнику МХАТ-2 М. В. Либакову Михаил Александрович пишет: «Рейнхардт очень занятен. Все мужчины (Чехов имеет в виду актеров) влюблены в него». И тут же решительно подчеркивает: «Я — нет».
Самая манера работы Рейнхардта была чужда Михаилу Чехову. Особенно в первое время. Потом он привык к ней. Привыкать вообще приходилось ко многому...
Поначалу Чехов не знал (а когда узнал, то было потеряно уже слишком много), что, некогда мятежный, всегда в поисках, всегда новый, Макс Рейнхардт уже значительно охладел к своим? былым творческим мечтам. Что он постепенно, но неукоснительно уходит от всего, что требует усилий, и предпочитает терниям искусства комфорт бархатной директорской ложи. Что он забросил рожденное им детище «Народный театр» («Volksbuhne»), перешел в район нуворишей и в своих четырех-пяти одновременно действующих предприятиях, монополизировавших театральную жизнь Берлина и отчасти Вены, культивирует жанр незатейливой комедии и мелодрамы, довольствуясь лаврами «эффектного» режиссера.
«Юзик»
Михаил Чехов приехал - сюда с думой о классике. Рейнхардт для него после «Артистов» Уотерса и Хопкинса поставил «ЛОзика». Под этим названием у него в берлинской «Камершпилле» на улице Шумана шла несколько измененная и подчищенная, но попрежнему полная сахарной водицы вместо лирики старая пьеса Осипа Дымова «Певец своей печали».
В «Камершпилле», театре для избранной публики, потолки, стены, кресла — все из красного дерева. Немецкие буржуа любили приезжать сюда «отдохнуть», переварить свой обед. Обстановка «Камершпилле», как и ее немудрящий репертуар, вполне отвечала их представлениям о том, что есть «красиво». К тому же здесь было только четыреста просторно расставленных мест, и в каждом из обитых штофной материей кресел можно сидеть развалясь. Значит, тут не только «красиво», но и «удобно».
Герой Осипа Дымова — бедняк и поэт в душе. Поэзию свою он изливает в игре на скрипке и в письмах, которые для заработка пишет на заказ. Юзик влюблен, но - конечно же! — избранница его сердца любит другого, и тому, другому, бедный поэт пишет от ее имени письма. А потом, когда одних слов, хотя бы и красивых, оказывается мало (у невесты нет приданого, и к тому же она всего только прислуга), Юзик отдает свой крупный выигрыш в лотерее, чтобы устроить счастье девушки с этим другим. В финале, снабженном всеми атрибутами самой дешевой символики, вторично обедневший герой подносит любимой свое сердце и умирает. Ужас как эффектно!
Поставлен был «Юзик» весьма тщательно. Как отмечали немецкие критики, некоторые участники спектакля играли совсем неплохо. И конечно Михаил Чехов — Юзик. «Непонятно только, — писали журналисты, — как вообще умудрился он наполнить эту пустую, никчемную роль».
Чехов, конечно, вышел из рамок текста и, насколько возможно, сделал из Юзика фигуру, которая и не снилась автору. Зрители запомнили его высокий лоб, обрамленный длинными белокурыми волосами, глубокие горящие глаза поэта — безумца, влюбленного в мечту и одержимого одним чувством. Остались в памяти его метания, нервные и в то же время мягкие, как и вся игра Чехова. Сильнее всего был он, конечно, когда не связывал себя дымовским текстом, когда отдавался фантазии, придумывая своего героя. И все же, все же нельзя было не увидеть, глядя на Чехова в «Юзике», что это породистый арабский конь, везущий бочку с водой.
Михаил Чехов играл по-немецки. И хотя выговор, несмотря на все усилия, был у него, как утверждают, не «перфект», хозяин остался им доволен. Он печатно объяснялся в любви к Чехову, называл его «дорогим другом», всячески привечал. Но удовлетворить Михаила Александровича он не смог. Не смог и потому, что Юзик не заменил Чехову Гамлета, о котором он мечтал, и потому, что ни в одном театре Рейнхардта не было, по сути дела, ансамблевой труппы. В «Юзике» с Михаилом Чеховым играли одни партнеры, в «Артистах» (кроме Карин Эванс) — другие. Исполнителей (по американскому образцу) чаще всего приглашали на постановку одной какой-нибудь пьесы. Не успев привыкнуть друг к другу, актеры расходились по разным театрам, чтобы снова, едва наладив и какие-то человеческие связи, и ансамблевую работу, разбрестись в стороны. Уже одно это делало спектакли случайными; и, как ко всему случайному, к ним нельзя было предъявлять серьезных требований.