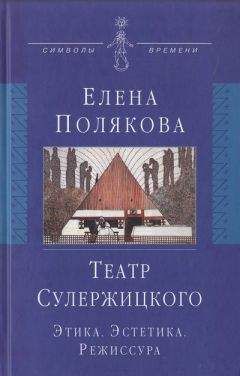Михаил Чехов не решался признаться в этом даже самому себе. Но, вероятно, его совершенно не удивило, когда на одном из представлений «Артистов» занавес вдруг стал опускаться раньше, чем актер закончил решающий всю его роль монолог. Чехов бросился вперед, к авансцене, руками уперся в падающую тяжелую деревянную рейку занавеса, стараясь удержать ее и выкрикивая в зрительный зал недоговоренные слова. С грехом пополам закончил он свой монолог. Но, боже, как гадко, должно быть, было у него в тот вечер на душе, как не по себе!..
В чеховском дневнике нет рассказа об этом эпизоде. И о том, что он играл роль Юзика, тоже. И о многом другом, с чем он встретился здесь, столь не похожем на то, что было дома, в России!
Знаменательная встреча
На короткое время появился в Берлине Станиславский. Константин Сергеевич ездил на немецкий курорт Баденвейлер, где лечился его больной сын, и теперь спешил в Москву. Макс Рейнхардт, склонный к эффектным жестам и внешней помпе, решил не упустить случая. На совещании, которое у него состоялось, было решено поднести Станиславскому художественный золотой жетон. Рейнхардту этого показалось мало. Надо было поразить гостя. Но чем? Немецкий режиссер решил, что сделать это можно, подарив Станиславскому роскошный автомобиль.
В честь Константина Сергеевича был дан торжественный ужин. Приглашенных не больше десяти человек, среди них Михаил Чехов. Несколько напряженная обстановка ожидания. Множество фотографов. С изысканным вкусом накрытый стол во «дворце» Рейнхардта.
Чехов не на шутку боится встречи со Станиславским. Боится вопросов, на которые (он хорошо понимает это) нет и не может быть ответов, могущих удовлетворить учителя. И как часто в трудную минуту, не выдавая своего подлинного состояния, он скрывает его за забавной историей: рассказывает, как происходила встреча его нового метра с Константином Сергеевичем.
Благодаря личному обаянию и поистине королевской манере держаться Макс Рейнхардт производил на окружающих величественное впечатление. Никому и в голову не приходило, что он мал ростом и некрасив лицом. И Михаил Чехов не думал об этом раньше. Но сейчас! Выдержит ли немецкий театральный деятель сравнение? Станиславский — гигант с львиной головой и Макс Рейнхардт, едва достигающий до его плеча, встанут рядом. Что будет?..
Маленький Макс Рейнхардт в ожидании встречи сидел в большом кресле. Боже мой, как мал казался он Михаилу Александровичу в эти минуты! Как хотел Чехов, чтобы никто, никто, кроме него, не заметил этой несносно большой спинки, с резной короной где-то высоко-высоко над головой Рейнхардта! Она делала Рейнхардта удивительно похожим на старинный портрет, сползающий вниз в своей золоченой раме. Громадный пустой зал еще больше подавлял маленького, «распятого» на кресле Рейнхардта.
В соседней комнате послышались голоса и шаги. Приехал Станиславский. Макс Рейнхардт наконец встал (нет, мал, видел Чехов, ужасно мал!)... и медленно, очень медленно пошел к двери. Лакеи раздвинули тяжелые портьеры, и показалась фигура седовласого гиганта. Он остановился в дверях, щурясь и улыбаясь, еще не зная кому. Наступила пауза. А Рейнхардт, разыгрывая сцену встречи, вероятно заранее продуманную в одиночестве у себя в кабинете, все шел и шел! И одну руку при этом держал в кармане.
Уже присутствующие, не выдерживая паузы, улыбались и неуверенно изгибались в полупоклонах. А Макс Рейнхардт, не прибавляя шага, все шел и шел. Он уже подходил. Вдруг Станиславский разглядел его. Быстро зашагал навстречу Рейнхардту, стал жать его руку и, не зная немецкого языка, бормотал очаровательную бессмыслицу. Левая рука профессора грациозно выскользнула из кармана и красиво повисла вдоль тела. Правая вдруг вытянулась, Рейнхардт отклонился назад. Образовалась дистанция. Рейнхардт поднял голову и взглянул вверх на Станиславского. «Но как! — вспоминает Чехов. — Как смотрят знатоки в галереях на картины Рафаэля, Рембрандта, Леонардо да Винчи. Не унижаясь, не теряя достоинства. Наоборот, вызывая уважение окружающих, которые любуются «знатоком», пожалуй, не меньше, чем картиной».
Позднее, описывая этот эпизод в письме к М. В. Либакову, Михаил Чехов удовлетворенно говорил о Рейнхардте: «Когда я видел его рядом с Ка Эсом (то есть с Константином Сергеевичем Станиславским. — А. М.), то поразился, как он при своем малом росте (он ниже меня даже) сумел «сохранить достоинство и не был ниже Ка Эса!»
Чехов был хоть этим доволен. Несколько молчаливых минут отсчитало его бьющееся сердце. На его глазах, казалось ему, совершалось чудо. Макс Рейнхардт стал расти, расти и вырос для него в прежнего, величественного, исполненного королевского достоинства профессора! Он повел своего гостя через залу, и оба были прекрасны. Один в своем смущении и детской открытости, другой — в уверенном спокойствии «знатока».
Засуетились фотографы, отодвинули кресло (теперь такое красивое и безопасное) и поставили обоих режиссеров вместе. Рейнхардт протянул руку и поставил Михаила Чехова рядом с собой. Он хотел, чтобы сняли их троих, очевидно желая проявить внимание к Константину Сергеевичу тем, что оказывает честь его актеру. Но фотографы имели на этот счет свои соображения. Они снова задвигали кресло, перешептываясь наспех, засуетились около Станиславского и Рейнхардта и, легко оттеснив Чехова в сторону, защелкали аппаратами.
Потом был ужин и речи. Еще во время торжественной церемонии Чехов шепнул Константину Сергеевичу о том, какой сюрприз ожидает его. На лице Станиславского выразился испуг. Не желая, однако, огорчать Рейнхардта, он сделал вид, что ничего о предстоящем ему подарке автомобиля не знает.
Вечер закончился. Один из директоров рейнхардтовских театров, говоривший по-русски, проводил Станиславского вниз. Увидев «свой» автомобиль, Константин Сергеевич растерялся: он не был уверен, «знает» ли он уже о сюрпризе или «еще нет». Шофер распахнул дверцу, и директор, сняв шляпу, «преподнес» Станиславскому автомобиль от имени Макса Рейнхардта.
Константин Сергеевич развел руками. Когда церемония окончилась, утомленный и несчастный Станиславский сел в автомобиль. Он попросил Чехова доехать с ним до гостиницы. С тоской и испугом он сказал:
— Боже мой, боже мой, что мне делать с этим?
— С чем? — спросил Чехов.
— Да вот, с этим... мотором? Все это очень хорошо и трогательно, но куда же я его дену? Оставить тут тоже... как-то... Не знаю. Ужас, ужас! И зачем он сделал это?..
Подъехав к гостинице, Константин Сергеевич с растерянным выражением лица, прижимая руку к груди, несколько раз поклонился шоферу и, простившись с Чеховым, скрылся в дверях.
В этот приезд Станиславского в Берлин Михаил Чехов встречался с ним несколько раз. Константин Сергеевич, в частности, читал ему отрывки из своей книги, которую писал тогда («Работа актера над собой»), В одно из свиданий (то была их последняя встреча) разговор зашел о системе Станиславского. Два определения Константина Сергеевича вызвали у них разногласия.
Станиславский находил, что воспоминания из личной жизни актера, если сосредоточиться на них, приведут к живым, творческим чувствам, нужным актеру на сцене. Чехов не соглашался. Он полагал, что истинно творческие чувства достигаются через фантазию. По его понятиям, чем меньше актер захватывает свои личные переживания, тем больше он творит. Он пользуется при этом очищенными от всего личного творческими чувствами. Душа его забывает личные переживания, перерабатывает их в своих подсознательных глубинах и претворяет их в художественные. Прием же «аффективных воспоминаний» Станиславского не позволяет душе забыть личные переживания. Чехов подтверждал свое мнение еще и тем, что «аффективные воспоминания», как он считал, часто приводят актеров (а еще больше актрис) в нервное и даже истерическое состояние.
В связи с этим первым пунктом разногласий находился и второй. Он касался того, как актер должен фантазировать, или, по выражению Константина Сергеевича, «мечтать» об образе своей роли. Если актер играет, например, Отелло, то он должен вообразить себя в обстоятельствах Отелло. Это вызовет в нем чувства, нужные ему для исполнения роли Отелло, утверждал Станиславский. Чехов возражал. Он считал, что актер должен забыть себя и представить в своей фантазии Отелло, окруженного соответствующими обстоятельствами. Наблюдая Отелло (но не себя самого) в своем воображении как бы со стороны, актер почувствует то, что чувствует Отелло. И чувства его в этом случае будут чистыми, претворенными. Образ шекспировского -героя, увиденный в фантазии, воспламенит в актере те таинственные творческие чувства, которые обычно и называются вдохновением.
Ни Станиславский, ни Чехов не уступили в этом споре, происходившем в берлинском кафе на Курфюрстендамм, хотя, встретившись в девять часов вечера, они разошлись только в пять часов утра. И все же Михаил Чехов с бесконечной признательностью вспоминал потом эти часы, подаренные ему Константином Сергеевичем. И не только эти. Он любил Станиславского, и память услужливо возвращала его к невозвратно ушедшим дням его актерского становления под руководством великого художника.