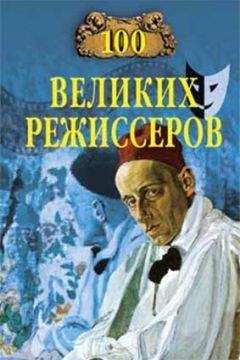Но до похода с Мурочкой в Большой оказалось много неотложных дел. Его всюду ждали. Он выступал в военной академии, в партийной школе, встречался с драматургами, писателями.
Готовился Первый съезд писателей, там тоже планировалось его выступление. Он внезапно оказался всем нужен.
К выступлению на съезде он готовился особенно скрупулезно. Ему казалось великим это сталинское желание упорядочить писательскую жизнь, сбить многочисленные группировки с их коммунальными страстями в один союз, во что-то стройное, системное, близкое по духу самому Таирову. Он ценил систему, можно было оглядеться и понять, что делать дальше.
В конце концов, чем был Камерный, как не системой, созданной им, Таировым, чем была страна, как не системой, созданной большевиками, чем был мир, как не системой, созданной неизвестно кем?
Союз писателей надо было создать, а ему выступить на этом съезде. Он знал, что сказать. Главное, чтобы не ко времени на трибуне не начали от волнения распадаться пряди волос, обнажая плешь, и он вместо того, чтобы пламенно, как он умел, говорить, стал волноваться из-за этих прядей.
Но пряди не распались, всё прошло благополучно, и речь прозвучала гладко, как и всё на съезде.
Но когда он, воодушевленный успехом, преодолев нелюбовь к большим и пьяным сборищам, нашел в себе силы зайти ближе к вечеру в писательский ресторан внизу, здесь же на съезде, и увидеть их всех сразу, возбужденных, жалких, каких-то ужасно одиноких, несмотря на создание союза, и вообще ужасных, принарядившихся и все-таки, несмотря на это, чем-то смахивающих на партизан, вылезших каждый из своего лаза, где они писали в одиночку, такое непохожее на актерское сборище абсолютно чужих людей, и в то время, как многие приветствовали его и подзывали к столикам, один из них, довольно известный, одаренный, вскочил, подошел ближе и ударил его по лицу.
— Эстет проклятый! — крикнул он. — Подумаешь, эстет проклятый!
И еще выкрикивал в его адрес что-то ужасное, пока его оттаскивали товарищи и администратор просил Таирова не вызывать милицию.
Ближе к театру он приободрился и вошел в квартиру, как всегда, радостно возбужденный, чтобы Алиса ничего не поняла.
А она и не хотела понимать ничего, кроме счастья. Ей было хорошо в эти дни «Оптимистической», в дни успеха, она даже забрала комиссарскую куртку из костюмерной: пусть висит в шкафу.
— Хорошо? — спросила она Таирова. — Рассказывай. Все прошло хорошо?
— Блестяще, — сказал он. — Все прошло блестяще. Только если можно, давай не сегодня, я чуточку устал.
* * *
Каждый раз, когда Алиса читала «Египетские ночи», он начинал думать о Пушкине.
Ему было свойственно переводить стрелку на час вперед. Когда Адриенна читала монолог Федры, он уже знал, что будет ставить «Федру». Лекок предвещал Лекока, «Брамбилла» — «Синьора Формику», О’Нил — О’Нила. Главное — не прерывать последовательности. Одно тут же рождало другое. Надо было только внимательно следить, что происходит в уже сделанном тобой. Его спектакли искали друг друга. Он нуждался в цельности. Буквально был полон гармонией. Часто формальной. Когда трудно было проследить, последовательность складывалась из параллелей, созвучий.
Он не считал это порочным. Весь смысл, вся суть были именно в том, чтобы следить за формой. Композиция подсказывала идею. В композиции он не мог ошибиться. Композиция репертуара.
Это только другие думали, что он ставит разные пьесы, разные спектакли. Он же знал, что только один-единственный, он писал Камерный театр как стихотворение. Он глядел в театр, как в аквариум, он видел, кто рождается там, у кого какие возможности.
Композиция не давала ему заблудиться. Вела куда правильно.
Он знал, кто на какие роли. Один артист как бы проявлял черты другого. Уходил Церетелли, появлялся Чаплыгин. Он старался не замечать разницы между дублерами. Они сливались с образами своих персонажей. Он привыкал, что замена делала его героев грубей, примитивней. Но спектакли из-за ухода артиста почти никогда не снимал.
Он стал оправдывать изъян исполнения грандиозностью замысла. Ему стало казаться, что важны не актеры, а целое. Он научился прикрывать актера общим решением. И не то что безразлично, кто кого играет, лишь бы рядом была Алиса.
Она никогда не вмешивалась в распределение ролей, да он бы и не допустил этого. Просто знала, что ей достанется лучшее.
Река не иссякала потому, что в ней жила Алиса.
И когда он смотрел «Египетские ночи», постепенно, с каждым вечером, в который шел спектакль, начинали откалываться, исчезать и Рим с его Колизеем, и Египет внутри Сфинкса, и все великолепные мизансцены. Оставались только Алиса и музыка Прокофьева.
Они напоминали ему будущее. Алиса читала Пушкина так просто, так правильно, музыка не подавляла, а придавала ей силы, она впускала музыку в себя. Впору было ревновать ее к Прокофьеву, он обожал Алису и говорил:
— Когда она читает Пушкина, я просто перестаю понимать, где ее голос, где моя музыка. Какая же это сила — ваша Алиса Георгиевна! Для нее не надо ничего перестраивать, она звучит со мной в одном регистре.
И, конечно, сразу захотелось не прерывать это звучание, этот союз.
Теперь он слушал их обоих в «Египетских ночах», не смотрел, а именно слушал. Ему хватало ее голоса, все остальное он мог легко себе вообразить, сам же и поставил. А тут, пока звучал «Чертог сиял», он вспомнил, что сам всю жизнь хотел сыграть Онегина, хватило сдержанных похвал Якова Рувимовича, еще в Бердичеве, когда он напялил берет, а отец, то ли нарочно, то ли запамятовав, кто там в малиновом берете с послом говорит, Татьяна, Онегин… зачем-то сказал: «Ты мог бы сыграть Онегина», заронив в него эту безнадежную мечту сыграть кого-нибудь из пушкинских героев — Германа, Алеко, Дубровского, кого угодно, а лучше всего Онегина по отцовской подсказке.
Когда Гайдебуров дал ему Бориса Годунова в толстовской трилогии, он подумал — почему не пушкинского? И тут же ответил, что на пушкинского мощи ему не хватало, голоса. Голосом трагедии владела Алиса, а у него был приятный драматический баритон.
На Бориса его не хватило бы, его хватило бы на Онегина.
Потом появился Церетелли, и он вполне мог представить его вместо себя в этой роли. Потом Фердинандов, даже Глубоковский. Жаль Бориса, он вернул его в театр, когда того освободили, но это был уже другой человек, безнадежно больной морфинист, вел себя так, будто притворялся самим собой — импозантным роскошным Борей Глубоковским, кололся к тому времени, где застанет, старался вне театра, прямо сквозь штанину шприцем, и так и умер от заражения крови.
Конечно, он тоже мог бы сыграть Онегина, если бы не умер. Остальных претендентов уже нет. Оставался Чаплыгин, штатный красавец Камерного театра, заменивший Церетелли в двух ролях, но Чаплыгин, несмотря на роскошную инфернальную внешность, был все-таки плебей, и как бы ни притворялся Таиров, что доволен, у Чаплыгина не было ни сказочной прелести Церетелли, ни его мягкости, ни его породы.
Он был просто красив, как случается вдруг оказаться мужику, особой, чужой, благородной барской красотой. Это были иллюзия, обман, на которые так падок простой зритель и не замечать которые соглашался Таиров. Какой есть, такой есть. Главное — спектакли идут, независимо от того, кто тебе изменил.
Конечно же, в отличие от Фердинандова или Церетелли, Чаплыгин был несколько прямолинеен, не всё оправдывал, но зато стал неплохим партнером для Алисы и был доволен своим положением первого любовника и… секретаря парторганизации. Он прекрасно мог сыграть Онегина, но лучше всех сыграл бы он сам, Таиров. Жаль, что рядом с Алисой его голос звучал бы мальчишески.
Он представил себе, как это было бы, и рассмеялся.
— Что-то не так, Александр Яковлевич? — спросила помреж, оказавшаяся рядом, когда он расхохотался в самом совершенно не соответствующем месте спектакля.
— Нет, нет, просто я представил себе, что Чаплыгин заболел и мне самому пришлось играть Цезаря. Представляю, как я был бы хорош в тоге! И миртовом венке!
Собеседница не знала — смеяться или нет, она проработала рядом с ним четверть века и была уверена, что для Александра Яковлевича невозможного нет.
Конечно же Чаплыгин-Онегин, музыка Прокофьева, Алиса-Татьяна.
Конечно, она скажет, что стара, а он начнет убеждать, что Сара Бернар сыграла Джульетту в шестьдесят лет, в то время как ей, Алисе…
Он будет говорить, что играть не надо, достаточно правильно прочесть. Она воспротивится, скажет, что он ей не доверяет, стал воспринимать какой-то филармонической актрисой, готовит ее в чтицы, что даже в Художественном с постаревшими примадоннами обращаются иначе.
Вот Ольга Леонардовна все еще продолжает играть Чехова, и он, любуясь ее гневом, начнет говорить, что и не собирается снимать Алису ни с одной из ролей, совсем наоборот, хочет дать ей сыграть Татьяну.