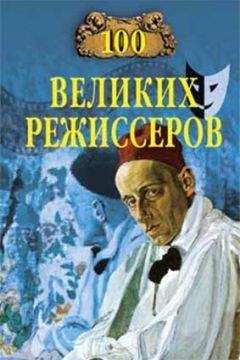Но ничего не сказал. Ему была назначена другая роль — специалиста по Европе. Было разрешено предупреждать по радио европейских художников, что их государственные деятели ведут себя неосмотрительно, пытаются навязать СССР холодную войну, и он честно говорил это и не особенно вникал, в чем природа нового конфликта. Ему не хотелось думать, что идет просто раздел мира, военной добычи, он говорил, говорил, а сам продолжал репетировать «Без вины виноватые», вспоминая уже не Алисину, а свою собственную актерскую молодость. Жизнь провинциального театра, возведенная в образ, — так называл он спектакль.
Кенигсон играл Незнамова как молодого Таирова, только что пришедшего в театр, — взволнованного одиночку с идеями, которые никому не нужны. Только в отличие от Незнамова Таиров подкидышем не был, у него оставались Яков Рувимович и Мина Моисеевна, они следили за каждым поворотом, за каждым изменением в судьбе сына.
Он метался в глубине парка, произносил знаменитый обвинительный монолог в адрес матерей, бросающих своих детей, а Алиса стояла на террасе и неподвижно вглядывалась в темноту сквозь ветви, а потом, поняв, кто он, бежала по ступеням, теряя сознание у ног Незнамова.
Так теряли сознание на этой сцене Бовари, Адриенна, Катерина, Федра — мизансцена не менялась, Таиров с наслаждением повторял сам себя.
И хотя всё это тяготело к банальности и штампу, но на сцене Камерного всегда оставалось убедительно и красиво.
Потому что каждому сильному театру присущ особый шорох исполнения, его не передать, он в трепете кооненовских интонаций, в движении рук, в растерянном взгляде Кенигсона-Незнамова.
Что остается от театра? Только злые слова современников и восторженные — исследователей. Совпасть может только пафос, только чувство театральности, но это редко случается.
Что можно понять о театре, кроме того, что напомнить о нем?
Как вспоминает человек, приближающийся к старому дому, что уже когда-то был в нем и в этом «когда-то», кажется, шел дождь.
Театр вспоминается, как шум дождя, который ты слышал когда-то.
А между тем театр продолжал жить, уже как бы непроизвольно, самостоятельно. Таирову удалось создать такое понимание, такую привычку совместной жизни, что выходили неплохие спектакли, о которых можно не вспоминать, делались как бы сами собой, по малейшему движению пальца актеры понимали, чего хочет от них Таиров. Он стал недоумевать — почему всё происходит так гладко, почти без усилий, театр вошел в привычку. Он сам наконец добился такой отлаженности всего организма театра, что почти не оставалось за чем следить. Выпускались спектакли, актеры приходили на репетиции и уходили под аккомпанемент Елизаветы Яковлевны. Проводились беседы о методе Камерного, он не замечал, что говорит почти одно и то же.
Как попугай Метелкин из «Багрового острова»: «Здравствуйте, Савва Лукич. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Рукопожатия отменяются».
Все выслушивали и, не задавая вопросов, продолжали работать, морщился только Гайдебуров.
— Не то, — говорил он. — Не то, Александр Яковлевич, слишком гладко, надо бы встряхнуть. Помните, как вы меня встряхнули, уведя моих из Передвижного театра, до сих пор забыть не могу.
Он играл в спектаклях Камерного хорошо, быстро завоевал авторитет, между ним и Таировым возникал тот уровень понимания, который вызывал уважение актеров. Значит, было что понимать.
На самом деле ничего нового в таировской режиссуре Гайдебуров для себя не обнаружил, всё это он уже давно знал, правда, в другой упаковке: медленные ритмы — и вдруг неистовство, падение или бросок. Все эти симметрично построенные на лестницах мизансцены, все эти почти одновременные движения массовки начинали его раздражать.
Оставаясь с Алисой в дружеских отношениях, он ее не полюбил, сравнивал со Скарской не в пользу Алисы и считал главной бедой Таирова.
— Охотно верю, что она была неотразима в прошлом. Сам видел в «Синей птице». Да и сейчас немало умеет. Но она старуха! Не может быть старуха героиней театра, не должна, у нее штукатурка со щек сыплется, пора дома сидеть.
Слухи об этих разговорах до Таирова дошли, несколько раз он пытался урезонить Гайдебурова, но тот начинал буквально злобно шипеть, что Таиров себя погубит, сам не понимает, что делает, в театр перестал ходить зритель, и не в спектаклях дело, спектакли хорошие, дело в Алисе, она из другой эпохи, смотреть невозможно.
«А вы из какой?» — хотелось спросить Таирову.
Но не спросил, а поставил для Гайдебурова «Старика» Горького, пьесу с двумя вариантами финала, хорошим и плохим, где Гайдебуров сыграл фашиствующего, всех ненавидящего субъекта.
Таиров ничего не сказал Гайдебурову. Он выстроил его собственное поведение, уверенный, что стоит Гайдебурову прожить жизнь гада, как он поймет, что значит вмешиваться в чужую жизнь, разрушать чужой покой.
Но Гайдебуров ничего не понял. Он так вошел в роль своего персонажа, что, говоря на сцене со своей жертвой, несчастным Мастаковым, о том, что он все равно не даст ему быть счастливым, разоблачит самозванца, видел перед собой Александра Яковлевича, его растерянные, непонимающие глаза.
Он бил в Алису, а попал в Таирова.
Театр, несмотря на призывы Александра Яковлевича, превращался, как и все прочие московские театры, в болото. Да и сама жизнь вокруг, неудовлетворенная шатким послевоенным миром, стала как-то опускаться. Старели вожди, умирали покровители.
Умер Калинин, успев вручить Таирову орден на тридцатилетие театра.
— Я пришел только ради вас, — шепнул он Таирову в Колонном зале. — Ради счастья лишний раз вас увидеть.
Писал, раздражаясь, Вишневский, с литературой у него не получалось, он хотел делать ее совсем по-другому. Срывал злость на Таирове в письмах. После войны он согласился стать литературным консультантом Камерного, а сам с презрением отбрасывал все пьесы, которые слал ему в Ленинград Таиров, а то и вовсе не читал их.
— Тогда напиши ты сам, — просил Таиров. — А я поставлю. Вспомним старые времена, и, поверь мне, это будет счастливейшая из наших работ.
Оптимизм Таирова начинал претить Вишневскому, он сам, как известно, был оптимистом, но это было уже слишком. Он махнул на Камерный театр рукой.
Всё никак не принимал Ворошилов, а просьба была одна — вернуть Камерный в группу театров союзного значения, откуда он был исключен после «Богатырей».
«Климент Ефремович, — писал Таиров, — мой дорогой, мы ведь давно искупили свою вину».
Это было какое-то не его время. Покровителей не осталось, только сам по себе Таиров с орденскими планками в петлице серого элегантного пиджака. Да еще Алиса в квартире над сценой, да еще горстка поклонников в зале.
Он продолжал думать об Алисе. Продолжал думать, что спасение только в ней.
— Я что-то не то делаю? — спрашивал он Алису. — Почему ты молчишь? Тебе тоже кажется, что я в плохой форме?
— Я с тобой больше тридцати лет. Ты никогда не работал лучше, — отвечала Алиса.
Ему нужна была только ее поддержка, единственный человек, ради которого он жил, которому верил.
И он начал репетировать с ней, не заручившись разрешением Комитета по делам искусств, «Веер леди Уиндермир».
— Вы в своем уме?! — не выдержав, кричал председатель Комитета Храпченко. — Опять Коонен, опять Уайльд? Я не хочу называть вещи своими именами. Вы знаете, какое время на дворе? А у вас «Бовари», «Веер». Снова западничаете, Александр Яковлевич? Не разучились? О Саломее вспомнили? Показалось, что снова семнадцатый год? Окститесь, Александр Яковлевич, какой «Веер», вы старый заслуженный человек, орденоносец.
Но он поставил спектакль, который на генеральной был закрыт.
В этот раз труппа не сбивалась в кучки, не шепталась, действовала уверенно.
На их стороне был Гайдебуров, принцесса Брамбилла — Миклашевская, муза Есенина, возвращенная Таировым в театр и ставшая там профсоюзным секретарем. На их стороне была политика государства по отношению к космополитизму, а в театре обнаружился настоящий космополит, западник с еврейскими корнями, Александр Яковлевич Коренблит, он же основоположник театра Александр Таиров.
В эти дни предстала перед ним и Алисой тень — огромная, впечатляющая, прекрасная тень прошлого. В рыжих сапогах, ободранной шерстяной бабьей кофте пришел к нему оставленный где-то в двадцатом году вечный спорщик, создавший свой собственный театр, просуществовавший в отличие от Камерного всего два года, Борис Фердинандов.
— Я не могу вам ничего предложить, Борис, — сказал Таиров. — У меня ничего нет, все театры переведены на самоокупаемость, мне пришлось сократить многих работников труппы, я уволил собственную сестру. Надо выжить.
— Ничего мне не надо, — сказал Фердинандов. — Я поставлю у вас Шекспира совершенно бесплатно, и всё наладится, вы увидите. Я больше двадцати лет думаю о «Макбете». Алиса Георгиевна сыграет, и Камерный театр снова восторжествует. Ведь вы последний настоящий режиссер, который остался на этом свете.