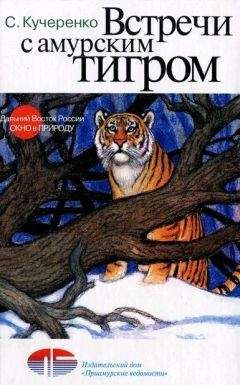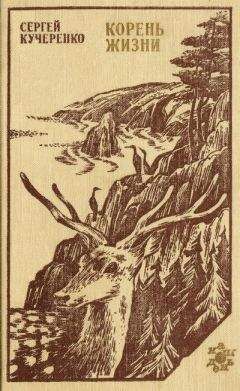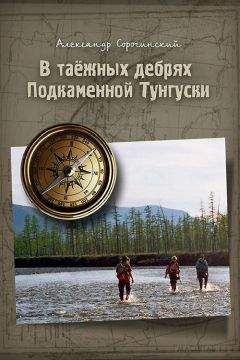В осаде
На бурной горно-таежной реке это было, на Сихотэ-Алине, летом. Поднимались мы против течения на лодке с проводником-мотористом Изотом Ивановичем — шестидесятилетним крепышом. Однажды прихватили нас врасплох проливные дожди. Мы хотели было пересидеть их в палатке, но за сутки сами насквозь промокли и промочили все свое имущество. А с неба все било как свинцовой дробью, барабанило по скатам палатки, стучало по листьям, густо рябило воду. Мрачные, темные лохмотья туч опускались все ниже, и дальше полукилометра уже ничего не было видно. Утратив всякую надежду хотя бы немного обсушиться около палатки, мы быстро свернули наш табор, погрузились в лодку и устремились под потоками дождя к ближайшей охотничьей избушке, до которой было около тридцати километров.
Там стало легче: обсушились, обогрелись. А дождь все лил и лил, словно разверзлись хляби небесные, и ничего в этом мире кроме дождя не осталось.
К ночи мы стали было успокаиваться, как вдруг прямо над нашей избушкой совсем низко ослепительно вспыхнула молния, бросив в оконце и дверные щели яркие потоки света. Тут же оглушающе и раскатисто ахнуло, да так, что стены вздрогнули, печь пыхнула дымом, и чайник на ней зазвенел. Мы вскочили с нар и застыли, соображая, что к чему. А над крышей загрохотало еще сильнее, окно засинело мигающим электричеством, запахло гарью… Но вскоре грозовые тучи укатили за сопки, мы слушали их отголоски и посмеивались над своим испугом. А потом Изот Иванович угнездился на нарах поудобнее, приподнял на локте голову над подушкой и заговорил:
— Это разве страх! Вот расскажу я тебе, Серега, как можно совсем от него обмереть… Начал я как-то промышлять норку да колонка еще по первоснежью. А для удобства на берегу речной протоки разбросил палатку — маленькую такую, двухместную, в рост не подняться. Лежанка внутри, печка да угол для всякого барахла. Ночевки в ней устраивал на длинном переходе…
Припоминая события, мой спутник долго смотрел на беспрестанно мечущийся лепесток свечного огонька, наконец заскорузлыми пальцами смахнул с него обгоревшую нитку, свесил с лежанки ноги и продолжил:
— Я еще по чернотропу приметил, что ходит по моим тропам тигра. Ну и ходи себе, соображаю, ты меня не трогаешь, и я на тебя не покушусь. Ан нет, начала она нарушать таежные правила: сначала приманку стала вынимать из ловушек, потом енота в ней слопала, колонков принялась красть. Чую, промышляем мы с ней на одном участке, а чей он — не поймешь. Она-то, конечно, считала, что тайга ее, я же воровски влез в чужие владения. А тигры очень такое не любят, сердятся. Другой раз спиною чую, что глядит на меня полосатая, а обернусь — не вижу…
Перед ноябрем погода испортилась и враз похолодало. Вечер застал меня в палатке у протоки. Натаскал я дров, пошел с ведерком за водой. А снег повалил так густо, что на пять саженей вперед не видать. Иду по тропе, снегу на ней уже в два пальца. Да так спешил, что аж когда ведерко опустил в воду, соображать стал: а кто же передо мной по той тропе протопал и наследил? Чутьем насторожился, нутром почуял: что-то не так и не то… Иду назад, озираюсь и вижу: стоит тигра около тропы, здоровущая такая, в двух саженях, и глядит на меня в упор. Ко мне бочиной, голова задрана так, что чуть не сверху смотрит мне прямо в лицо. Я обмер, но как шагал, так и шагаю — вроде бы машина. Только помню, как сквозь вату подумал, что бежать в такое ненастье кроме палатки некуда, а был я в одной лишь кацавейке… И что же ты думаешь? Прошагал от нее — рукой достать было можно. Даже духом кошачьим в нос шибануло. А перед тем как нырнуть в палатку, оборотился и вижу: тигра медленно так шагает за мной, только голову, как котел здоровущую, опустила и озирает меня уже снизу. Хоть и зло, однако с интересом так озирает. А со страху я забыл, что ружье ведь на дереве висит…
Изот Иванович поворошил свою густую серебряную шевелюру, пригладил бороду, зачем-то опять стал поправлять свечу, хотя горела она исправно. Потом расстегнул ворот рубахи и снова его застегнул… Я понял, что взволнован старик воспоминанием, и чтобы дать ему успокоиться да собраться с мыслями, принялся расправлять мокрую одежду над печкой, подбросил в нее немного дров, долил чайник на вечернее чаепитие. А сам все жду продолжения истории.
— Садись, Серега, и слушай дальше, — заговорил он. — Нырнул я в палатку, застегиваю полы, а она глядит на меня ну совсем изблизи. Как я перетрухал, и передать нет слов. Да ить как не перетрухать: один, пурга, темень уже наваливается, ружье висит на дереве, а что стоит тигре меня хрумкнуть — пустяк один. Как теперь помню — руки трясутся, зубы стукаются, волосья под шапкой шевелятся, а все туловище что мурашами кусачими обсыпано, даже на пятках они… Кое-как застегнул палатку и стою на четвереньках, как обезьяна, соображать сквозь страх пытаюсь, а не соображается. Тут слышу снаружи: хрум, хрум, хрум — обходит, значит, зверина полосатая палаточку мою. Зашла сзади, почихала от духа дымовой трубы, да так почихала, что материя заходила. А с другой стороны зашла и встала. Чую, боком стала, а палатку шумно так обнюхивает… Я как стоял на четвереньках, так и задубел, аж челюсть от жути свесилась и в животе забурлило…
Тут слышу снаружи: хрум, хрум, хрум — обходит, значит, зверина полосатая палаточку мою
Я очень хотел, чтобы мой собеседник рассказал всю эту историю подробно, без утайки и стеснения, и стал его поддерживать:
— В тайге чего только не случается. Меня как-то шатун так напугал, что я…
— Да что шатун! — перебил меня Изот Иванович. — Я с ними сколько встречался, и бока они мне мяли этак, что в больнице валялся месяцами, но такого страху, как с тигрой, я никогда не переживал, потому как тигры на людей влияют особенно пугающе. Который слабый духом, так от одного следа тигриного обмирает. Но слушай дальше… Корячился я, корячился на четвереньках, аж все тело затекло, а тигра стояла, стояла да и легла рядом с палаткой, затихла, только хвостом нет-нет да и лупанет по материи. Палатка вздрогнет, а я еще шибче. Потом повздыхала этак шумно, как корова, и затихла, видно, вздремнуть ей захотелось рядом с человеком… А я стал замерзать: огня-то в печке еще не было, а снаружи совсем затемнело, и пурга все шибче и шибче гудит. Хоть помирай. Вот ведь какая жуткая история была. Себя не чуял, ум затуманило, а всего как свинцом залило…
Рассказчик смолк, зачем-то выглянул за дверь в непроглядно мокрую темень дождливой ночи. Затем взялся заваривать чай, осматривать подсыхающую одежду… Я уже не мог сдерживать нетерпение.
— Да сядь ты, Иваныч! Дальше-то что было?