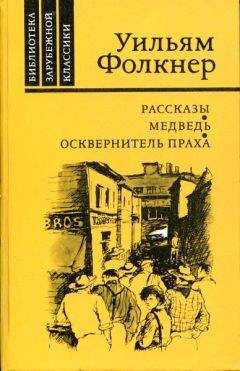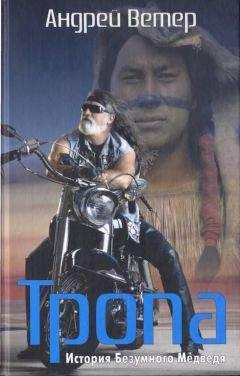— Не хочу лимонаду.
Дверь захлопнулась за спиной. Солнце поднялось уже довольно высоко. День был яркий, хотя Эш пророчил к ночи дождь. Размораживало; завтра гон состоится. И сердце сжалось восторгом, девственным и древним, как в первый день; пусть состарится он на охоте и ловле, никогда не покинет его это чувство ни с чем не сравнимой причастности, смиренье и гордость. Лучше не думать об этом. А то ноги сами рвутся бежать на вокзал, на перрон — в первый поезд, идущий на юг; лучше не думать. Улица полна была движения. Крупные нормандские лошади-першероны, щегольские экипажи, оттуда высаживались мужчины в модных пальто и розовые дамы в мехах и шли в здание вокзала (салун был всего через дом от него). Двадцать лет назад, кавалеристом отряда Сарториса, действовавшего в составе армии Форреста, отец его въехал в Мемфис, по главной улице и (рассказывали) прямо в холл гостиницы Гейозо, где, развалясь в кожаных креслах, офицеры-янки поплевывали в высокие, блестящие медью плевательницы, — и ускакал цел и невредим…
Дверь за спиной отворилась. Тыльной стороной ладони Бун утирал губы.
— Порядок, — сказал он. — А теперь — дело делать и домой мотать.
У винокура им запаковали виски в чемодан. Где и когда Бун обзавелся еще бутылкой — не известно. Должно быть, мистер Семс дал. (Когда прибыли в Хоукс на закате дня, она была пуста.) Обратный поезд отходил через два часа; от винокура, никуда не заходя, они вернулись на вокзал, как наказывал и приказывал Буну сперва майор де Спейн, а потом Маккаслин — за тем они и мальчика приставили. Бун почал свою бутылку в вокзальном туалете. Человек в форменной фуражке подошел сказать, что здесь не положено, взглянул разок на Буново лицо и промолчал. Потом в ресторане Бун, держа стакан под столом, стал наливать, но явилась распорядительница и (поскольку женщина) не промолчала, и он опять пошел в туалет. Он уже успел громогласно поведать о Льве и Старом Бене негру-официанту, а заодно и всем посетителям, которые никогда не слыхали про Льва, да и не желали бы слышать, если б то от них зависело. Затем Буна осенило насчет зверинца. В три часа на Хоукс, оказывается, отходит еще поезд, и, стало быть, сейчас они пойдут смотреть зверей, а поедут трехчасовым. В третий же раз придя из туалета, Бун объявил, что они немедля едут в лагерь за Львом и втроем отправляются в зверинец, где медведи заелись мороженым и конфетками, и Лев всем им там жару даст.
Так что на поезд, которым следовало вернуться, они не сели, но трехчасового он не дал Буну пропустить и тем поправил дело; теперь Бун и в туалет не уходил; пил тут же в вагоне да разглагольствовал про Льва, поймав кого-нибудь в проходе, и его слушали молча, как молчал служитель на вокзале.
Когда на закате приехали в Хоукс, Бун спал. Мальчик растолкал его, вытащил из вагона вместе с чемоданом и даже убедил поужинать в продуктовой лавке. Так что Бун почти протрезвился к тому времени, когда паровичок повез их обратно в лес, над которым багряно заходило солнце; и небо было уже пасмурное, и ночью земля не замерзнет. Спал теперь мальчик, присев за рубиновой от жара печуркой; вагончик трясся и тарахтел, разговор шел про Льва и Старого Бена, и кондуктора отвечали с понятием, потому что здесь Бун был среди своих.
— Небо затянуло, на оттепель пошло, — говорил Бун. — Завтра Лев его кончит.
Кончать выпало Льву или кому другому — только не Буну. Он ни разу еще, сколько помнили, не подстрелил дичи посущественнее белки — разве что негритянку в тот день, когда пять раз палил в негра. Негр был парень рослый, находился в четырех шагах от Буна, разряжавшего по нему пистолет, взятый у чернокожего деспейновского кучера, и тоже выхватил пугач, выписанный по почте за полтора доллара, и изрешетил бы Буна, но выстрелов не получилось, а одни осечки: щелк-щелк-щелк-щелк-щелк; Бун же израсходовал обойму не прежде, чем разбил зеркальную витрину, за которую с Маккаслина потребовали сорок пять долларов, и ранил в ногу проходившую мимо негритянку, но тут уж пришлось расплачиваться майору де Спейну: они с Маккаслином разыграли в карты, кому платить за витрину, кому за ногу. А нынешний год в лагере, в первое же утро охоты, прямо на Буна выбежал рогач; мальчик услышал пятикратный грохот старого Бунова дробовика и потом голос Буна: «Уходит, треклятый! Наперерез бери! Наперерез!» — и, добравшись до места, увидел, что от пятерки расстрелянных гильз до оленьих следов неполных двадцать шагов расстояния.
В ту ночь в лагере было пятеро гостей из Джефферсона: Баярд Сарторис с сыном, младший Компсон и еще двое. А наутро, выглянув из окна в рассветную серую морось, предсказанную Эшем, мальчик увидел более двадцати человек — добрый десяток лет снабжали эти люди Старого Бена зерном, свиньями и телятами, а теперь стояли и сидели на корточках под мелким дождем, в ветхих шляпах, куртках и комбинезонах, которые любой городской негр давно бы выбросил или сжег; даже ружья, старые, невороненые, имелись не у всех, а лишь резиновые сапоги были на них целые и крепкие. Пока завтракали, подошла еще дюжина пеших и конных: лесорубы с участка в тринадцати милях ниже лагеря, рабочие хоукской лесопилки, кондуктор с узкоколейки (единственный обладатель ружья среди них), — так что в то утро майор де Спейн повел в лес отряд, уступавший вооружением, но едва ли численностью тем, какие он водил в последнюю, мрачную пору 64–65-го годов. В дворике пришельцы не уместились, стояли и за воротами, где майор де Спейн верхом на своей кобыле ждал, пока Эш (в грязном фартуке) набьет жирными от смазки патронами и подаст ему карабин, и где пес синеватой масти важно и огромно — по-лошадиному, не по-собачьи — застыл у стремени, помаргивая дремотными топазовыми глазами, слепой и глухой ко всему вокруг, даже к гаму гончих, которых вывели на смычках Бун и Теннин Джим.
— На Кэти посадим генерала Компсона, — сказал майор де Спейн. — В прошлом году он пустил кровь; будь под ним спокойный мул, он бы…
— Нет, — сказал генерал Компсон, — стар я уже гонять по зарослям на лошадях и мулах. Притом я свой шанс год назад упустил. Стану сегодня на номере. А Кэти я хочу дать пареньку.
— Погодите, — сказал Маккаслин. — У Айка вся жизнь впереди, с охотой и медведями. Пусть другой…
— Нет, — сказал генерал Компсон. — На Кэти сядет Айк. Он уже лучше нас обоих дело знает, а лет через десяток сравняется и с Уолтером.
Он не верил, пока майор де Спейн не велел ему сесть на Кэти. И вот он сидит на одноглазом муле, не шарахающемся от дикой крови, и глядит на пса, что встал у стремени майора де Спейна и в сером зыбком свете кажется крупней теленка, крупней, чем есть на самом деле, — крупная голова, грудь чуть ли не шире его собственной, мышцы под синеватой шерстью не дернутся, не дрогнут ни от чьего прикосновенья, ибо сердце, которое гонит к ним кровь, не любит никого и ничего, — встал огромно, как лошадь, и, однако, иначе, ведь образ коня вяжется с весомостью и быстротой, не больше; Лев же внушал мысль не только о храбрости и всем прочем, из чего складывается стремление и воля преследовать и добывать, но и о стойкости, о воле перейти за всякий вообразимый для плоти предел упорства в этом стремлении догнать и добыть. Пес взглянул на него. Шевельнул головой, поверх мелкого собачьего тявканья взглянул глазами, как у Буна — без глубины, как у Буна — без низости и великодушия, без доброты и злобы; холодными, сонными — и только. Затем глаза моргнули, и мальчик понял — они не смотрят на него и не смотрели, просто голова у Льва так повернулась.