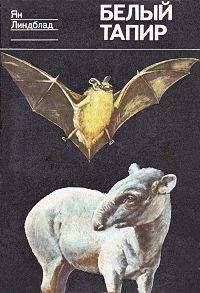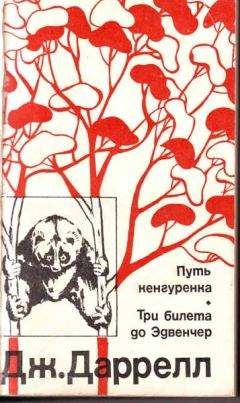— Влезь на столб, сделай стойку на одной руке, получишь мороженое, — заявил этот капиталист.
Разумеется, я влез на фонарный столб и сделал горизонтальную стойку на правой руке. Для меня это было проще простого, и высоты я ничуть не боялся.
Я не мог пожаловаться на гибкость своих суставов и вместе с будущей прима-балериной Марианой Орландо из знаменитой цирковой династии Орландо заполнял перерывы между напряженными уроками в театре акробатикой — то делал мост, то прыгал на руках, заложив ноги на шею. Во время летних каникул я продолжал еще более интенсивно тренироваться на нашем чудесном Каменном острове. Вскоре мой отец, преподаватель пения, обнаружил, что музыкальная студия, которую он оборудовал на острове, совершенно преобразилась. Высокий потолок бывшего сарая позволил подвесить трапецию и кольца, установить стойки и натянуть между ними два каната. Тренера у меня не было, но я сам трудился до исступления, заставляя свое тело выполнять виденные на манеже трюки.
В двенадцать лет я увидел нечто совсем новое и потрясающее — жонглера-классика. С немыслимой скоростью манипулировал он шарами, кольцами и булавами, четко и безупречно выполнял всевозможные комбинации и вариации.
Я тотчас понял, что для таких сложных трюков требуется неизмеримо большая сработанность мышц и нервов, чем для любого другого циркового жанра. Конечно же, я принял вызов и начал упражняться еще и в жонглировании.
Словом, мне было чем заполнять свой досуг. И все же тоска по Каю давала себя знать. Но тут на сцене появилась другая птица. В сумрачный зимний день, выйдя из школы, я на багажнике своего велосипеда сквозь завесу мокрых снежинок разглядел нечто вроде смятого бумажного кулька. Это был голубь, очень грязный, а вообще-то белый, с черными бляшками на шее и крыльях. Повезло ему, что в предсмертные минуты он выбрал именно это место… Он до того обессилел, что не мог двигаться. Я сунул его за пазуху и покатил домой. Дома отогрел его, и мало-помалу он ожил. Ему явно пришлись по вкусу размоченные в теплом молоке сухари, и на следующий день он уже обрел вполне приличную форму. С самого начала он был совсем ручной; вообще я заметил, что у больной птицы часто не хватает мочи на то, чтобы реагировать страхом или угрозой на грозного двуногого зверя, и вы не встречаете отпора, на преодоление которого обычно может уйти месяц, а то и больше. А когда птица идет на поправку, она быстро усваивает, что ее опекун — безопасное существо. Если человек выхаживает, например, истощенного, апатичного, чуть живого беркута, птица становится «ручной» не из благодарности, а, так сказать, в обход нормального защитного поведения.
Зима, как всегда в Стокгольме, выдалась для птиц тяжелая, и я, конечно же, держал голубя дома, в тепле. Обычно птицы, сменив холодный воздух на комнатную температуру, начинают петь во всю глотку; это вполне естественно, ведь тепло стимулирует половые железы и тем самым форму брачного поведения, которую мы называем пением. Мой Колумб (голубь по-латыни — columba) не был исключением. Стоило мне войти в комнату, где находился питомец, как он начинал семенить взад-вперед и ворковать. Вскоре он стал рассматривать всех членов семьи как соперников — и возможных партнеров. Расправит крылья и хвост и атакует наши ботинки, яростно дергает шнурки. Подобно Каю и многим другим пернатым, которых я держал, он, во всяком случае на время, реагировал на человека. И, подобно им, иногда спускался на голову кому-нибудь из нас и вел себя как влюбленный голубь. (Когда к вам проявляет нежные чувства голубь или скворец, это еще куда ни шло; хуже дело, если в роли влюбленного выступает филин, вооруженный восемью острейшими когтями.)
Настал март, на улице потеплело, и Колумбу, который поглощал неимоверное количество корма и производил соответствующее количество гуано, была предложена свобода. Я широко распахнул окна, он с довольным видом сел на солнышке и безучастно глядел на пролетавшие мимо голубиные стаи.
Как раз в это время я здорово простудился и слег недели на две. Однажды утром меня разбудили какие-то глухие, стонущие звуки. В первую минуту я никак не мог сообразить, что это и где источник звуков. Потом почувствовал, как что-то шевелится у меня в ногах под одеялом. Это Колумб нашел подходящее с точки зрения уличного, вернее скалистого, голубя место для гнезда и теперь усердно зазывал меня туда. В самом деле, чем плохое убежище для кладки!
В один из майских дней я вывез его за город. Он сразу набрал высоту, потом стал описывать широкие круги, и я уже надеялся, что Колумб, как положено голубям, ощутит тягу к дальним странствиям и сам полетит в Стокгольм, к тамошним голубиным стаям. Ничего подобного. Он спустился мне на плечо и завел свое ласковое «ру-ху, ру-ху, ру-ху».
Возвратившись в город, я решил держать его на балконе. Кругом летали влюбленные голубиные пары и одинокие голубки. Колумб ворковал, пыжился и в конце концов явно нашел себе более подходящего партнера, чем наше семейство. В один прекрасный день я обнаружил, что он исчез. Обнаружил не без грусти.
Хотел бы я знать, что думали люди, встречая на улице мальчика, который таращился в небо с придурковатой улыбкой, похлопывал себя по плечу и время от времени восклицал:
— Колумб! Колумб!
Откуда им было знать, что мой возглас относился к летящему в стае белому голубю с черными пятнами на шее и на крыльях.
* * *
Снова летние каникулы, снова пышно цветут луга, солнце сияет в вечно голубом небе — таким всегда рисует лето наша благосклонная память.
Наш сосед, любивший фруктовые деревья и мелких пташек больше, чем сорок, уже разорил одно сорочье гнездо, и до меня дошло, что он собирается поступить так же с новым сооружением настойчивой пары. Я влез на дерево, запустил руку в круглое гнездо и извлек комочек, весьма отдаленно похожий на изящных сорок с их блестящим черно-белым нарядом. В жизни не видел более уродливого существа: головенка беспомощно болтается на тонюсенькой шейке, тельце голое, без единой пушинки. Родители осыпали меня бранью, и совсем незаслуженно, ведь в итоге из всего выводка выжил только сорочонок Якоб. Это имя подсказал мне двусложный квакающий звук, издаваемый несоразмерно большой головой сорочонка, особенно при виде пищи. Якоб был изрядный чревоугодник, но после Кая меня трудно было удивить.
Кстати, в то лето я снова обзавелся галчонком. Прежний владелец предпочел расстаться с ним — вполне объяснимое решение, если учесть гуано-фактор. Два представителя врановых стали добрыми друзьями, причем галка, похоже, выбрала сороку себе в родители, а со мной не очень-то считалась. Но ведь я не выкармливал ее с самого начала, как это было с Каем.