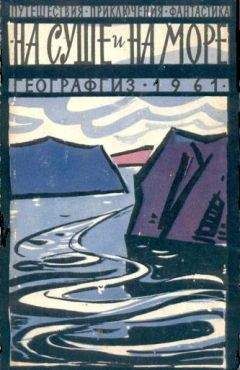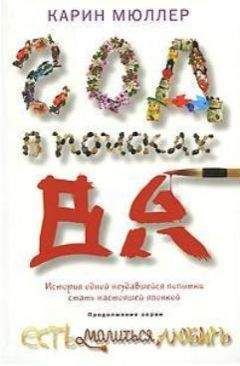И пошел, проваливаясь в снег.
Мне было так тяжело, что когда увидел дом, жалкий, брошенный дом, я вспомнил, что там должен быть пункт связи. Я распахнул дверь, и меня обдало снегом и снежной пылью. Половину крыши сорвало снарядом. Сугроб с крыши обвалился внутрь. В той половине, где еще сохранилась крыша, стоял стол, на нем был разбитый полевой телефон, оборванный провод и перед столом кожаное кресло. Откуда оно взялось в лесу — не знаю. Я сел в это кресло и закрыл глаза. Когда снова услышал стук двери, и спросил, не подымая головы: «Это ты, Фриц?» Так звали унтера. В ответ я услышал сказанное на плохом немецком языке: «Кто вы?»
Я встал. Передо мной стояли люди в полушубках. Один из них направлял на меня автомат, другой заглядывал в разрушенную часть дома. Но третий, широкоплечий и спокойный, был, по-видимому, командир. Это он повторил свой вопрос: кто вы?
— Командир батальона, — сказал я. Мне ничего больше не оставалось.
Человек в желтом полушубке, у тех были черные, сказал:
— Где же ваш батальон?
— Об этом я хотел бы узнать у вас! — отвечал я. Он засмеялся вдруг совершенно мирно, а я отстегнул и положил на стол свой пистолет. Вот и все… Дальше в плену я долго помнил подробности этой ужасной зимней прогулки в русском мертвом лесу… О, я не хотел бы пережить это еще раз…
Отто слушал нехотя, но слова долетали до его уха и вызывали какую-то тревогу, непонятную ему. Чего старики разоткровенничались? Он услышал голос, похожий на скрип двери. Это говорил Шренке:
— Вы сделали, по-моему, единственную ошибку в вашем затруднительном положении…
— А именно? — спросил глухим голосом Хирт.
— Не к чему было отвечать им и говорить, что они знают, где ваш батальон. Ваш батальон геройски погиб…
— Вы хотите сказать, что я…
— Нет, вы меня не поняли. Вам надо было сказать этим белым или красным медведям: «Мой батальон погиб геройски…»
— Но он не погиб…
— А где же он был?..
— Часть его бежала, часть была уничтожена, часть сдалась в плен…
— Да, да, — сказал Шренке, — как давно это было… Как давно! Кто из нас тогда мог предполагать, что мы будем сидеть вот такой теплой ночью в этих удивительных краях. Какая изумительная тишина, какие звезды! Посмотрите, это какая-то зеленая тьма…
Отто поднял голову. Он встал, подошел к перилам и облокотился на них. Где-то в другом мире, далеко-далеко от него горели свечи и две старые головы, повернувшись в профиль, не двигались, точно прислушивались к чему-то, что надвигается из этой зеленой тьмы.
А зеленая тьма все густела и густела, подбирая все ближайшие деревья и кусты. Она двигалась на дом, и Отто показалось, что сейчас она, как волна, подымется и скроет его в своих зеленых недрах. Он закрыл глаза, точно почувствовал прикосновение этой тяжелой волны. Она уже тронула его плечо. Он вздрогнул.
— Это я, — сказал старый Шренке. положив свою морщинистую руку ему на плечо. — Пора спать, Отто! В такую ночь можно получить малярию. Вон сколько вьется комаров, коварные твари эти анофелесы! Иди спать, мальчик!
— Из Дюссельдорфа, — сказал почти резко Отто. Старый вояка чуть отодвинулся.
— Что ты сказал?
— Я сказал: мальчик из Дюссельдорфа!
— Ах да, правда, ты ведь из Дюссельдорфа. Ну, все равно, иди отдыхать!
Мы славно посидели сегодня, не правда ли?
Август 1959 — январь 1960
Джон Мэйсфилд[5]
ГИМН МОРЮ
Рассказ
НОЧАМИ, зимними ночами, ночами, когда воет ветер и бушует шторм, — в такие моменты особенно остро чувствую я всю прелесть жизни на суше. Ага, говорю я, ты, злюка-ветер, ты можешь дуть, покуда у тебя не лопнут щеки, а мне хоть бы что! Потом я прислушиваюсь, как шумят и качаются вязы, как скрипят половицы в доме, и, ага, говорю я, вы, сорванцы, можете скрипеть и трещать, а я спокойно буду лежать в постели до рассвета.
Большое утешение нахожу я на суше, когда ревет буря. Но в тихую погоду, когда моросит дождь, когда под ногами грязь, мир окрашен в цвет утонувшей крысы, на память приходят другие дни, дни полные буйной жизни и приключений; и не глупец ли я был, говорю я, что стал жить на суше, что примирился с той жизнью, какой сейчас живу? Да, действительно, я был глупец, что всегда так дурно думал о море. Если бы сейчас я был на корабле, мне не пришлось бы делать то, что делаю я. Если бы держался моря, я был бы теперь вторым помощником капитана, а может, и первым. Не сидел бы согнувшись за конторкой, а стоял бы на мостике вместе с рулевым и гнал бы корабль вперед пятнадцатиузловым ходом.
Именно в такие минуты вспоминаю я лучшие дни, волнующие дни, дни напряженной, горячей жизни. Один из них особенно живо встает в памяти, один из тысячи, как день необычайной радости.
Мы были в море, у берегов Южной Америки, и мчались на юг, как олень. В последние сутки ветер постепенно крепчал, и весь день за кормой нашего судна бурлила белая пена, словно в кильватере военного корабля. За сутки мы прошли 270 узлов, и это было чудесно, хотя, конечно, многие суда делают иногда и побольше. Но для нас это была исключительная удача. Ветер дул чуть сбоку, что особенно благоприятствовало нашему судну, и дул с необычайной силой. За нашим капитаном установилась репутация «бесшабашного», и в данном случае он гнал корабль как никогда.
В этот чудесный день мы не плыли, а летели, то взлетая вверх, то бросаясь вниз, в пропасть, дикими прыжками мчась вперед в бешеном порыве. Ветер ревел на реях и бушевал в вантах, и паруса пузатились до того, что были тверды, как железо. Мы мчались по морю огромными прыжками — других слов я не нахожу. Наше судно, казалось, перелетало с одной ревущей волны на другую, перемахивая через зияющую пропасть между ними. Мне приходилось плавать на быстроходном паровом судне, на турбоэлектроходе, идущем со скоростью более двадцати узлов, но я никогда не испытывал такого чувства быстроты. На этом небольшом старом паруснике радость от скорости его хода была такова, что мы громко смеялись и кричали в восторге.
Шум ревущего ветра и непрерывное кляк-кляк-кляк блоков талей, рев огромных волн, догоняющих одна другую, скрип и звон каждого блока и бруса звучали для нас словно танцевальная музыка. Нам казалось, что мы мчимся со скоростью девяносто миль в час. Вода за кормой бешено бурлила, вздымаясь белой пеной. Мы бегали взад и вперед, то подтягивая здесь, то отпуская там, пока, казалось, что мы вот-вот свалимся с ног. Но, работая, мы громко пели и кричали. В нас будто вселился дух ветра. Хотелось плясать или начинать кулачный бой. Мы были словно обезумевшие, в каком-то невыразимом экстазе, и уже начинали думать, что наш корабль оторвется от воды и устремится к небесам, как крылатый бог. Над носом корабля взлетали каскады брызг, искрясь на солнце. Передние паруса стали мокры до последней нитки. Водопротоки превратились в ручьи, в водопады.