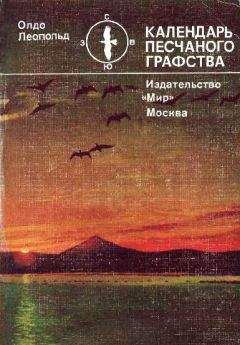Этот гимн заре, раздающийся почти у нашего крыльца, — великая честь для нас. Почему-то после этого голубая осенняя хвоя веймутовых сосен словно еще больше голубеет, а красный ковер ежевики у их подножий становится еще краснее.
Есть два рода охоты — обычная охота и охота на воротничкового рябчика.
Есть два места, где можно охотиться на воротничкового рябчика, — обычные места и графство Адамс.
Есть два времени охоты в графстве Адамс — обычное время и время, когда лиственницы окутаны дымным золотом. Все это пишется ради тех обойденных судьбой неудачников, кому никогда не доводилось, разинув рот и сжимая разряженную двустволку, смотреть, как кружат в воздухе золотые иглы, пока стряхнувшая их с веток оперенная ракета скрывается в соснах Банкса, целая и невредимая.
Лиственницы переодеваются из зеленого в желтое, когда первые заморозки уже пригнали с севера вальдшнепов, пестрогрудых овсянок и юнко. Стайки дроздов склевывают последние белые ягоды с дёрена, и оголенные веточки розовым облаком висят на склоне холма. Ольха у ручья сбросила листья и больше уже не заслоняет падубов. Ежевика пылает багрянцем, освещая вам путь к стороне рябчиков.
Пес лучше вас знает, где находится эта сторона, и разумнее всего следовать за ним, читая по положению его ушей вести, которые ему приносит ветер. Когда он, наконец, замирает на месте и взглядом искоса предупреждает: «Готовься!», неясно только одно — к чему, собственно, готовиться? К свисту вальдшнепа, к грому крыльев рябчика или всего лишь к прыжку кролика? Этот миг неуверенности заключает в себе почти всю прелесть охоты на рябчиков. А тот, кому обязательно надо заранее знать, к чему готовиться, пусть идет охотиться на фазанов!
Охотам присущи разные оттенки вкуса, что объясняется очень тонкими причинами. Самые сладкие охоты — краденые. Чтобы украсть охоту, либо отправляйтесь в дебри, где прежде никто не бывал, либо найдите заповедное место у всех под носом.
Редкие охотники знают, что в графстве Адамс есть рябчики: проезжая по шоссе, они видят только пустыри, поросшие соснами Банкса и кустарниковыми дубами. Шоссе там пересекают текущие на запад ручьи, которые берут начало в болотах, но дальше вьются среди сухих песков. Естественно, что шоссе на север было проложено через эти песчаные пустоши, но к востоку от него, за сухими перелесками, прячется широкая полоса болота, идеальный приют для рябчиков.
Там, уединившись среди моих лиственниц, я сижу в октябре и слушаю, как по шоссе с ревом проносятся машины заядлых охотников, которые наперегонки мчатся в кишащие людьми графства дальше к северу. Я посмеиваюсь, представляя себе пляшущие стрелки их спидометров, напряженные лица, глаза, жадно устремленные вперед. И отвечая их шумным машинам, вызывающе гремит крыльями самец воротничкового рябчика. Мой пес ухмыляется, и мы смотрим в ту сторону. Мы оба считаем, что этому молодчику полезно поразмяться, — сейчас мы им займемся.
Лиственницы растут не только на болоте, но и у подножия обрыва, где бьют питающие его ключи. Ключи прячутся в огромных подушках сырого мха. Я называю эти подушки висячими садами, потому что из их пропитанных водой глубин драгоценными камнями поднимаются к свету голубые венчики горечавок. Припудренная лиственничным золотом октябрьская горечавка стоит того, чтобы задержаться и долго смотреть на нее, даже когда пес дает понять, что рябчик совсем близко.
Между каждым висячим садом и берегом ручья тянется выложенная мхом оленья тропа, словно предназначенная для того, чтобы по ней шел охотник, а вспугнутый рябчик перелетал через нее за считанные доли секунды. И тут все сводится к тому, как птица и двустволка считают эти доли. Если результаты не совпадут, следующий олень, который пройдет по тропе, увидит две стреляные гильзы, которые можно обнюхать, и ни единого перышка вокруг.
Выше по течению ручья я выхожу к заброшенной ферме и пытаюсь по возрасту молоденьких сосенок, шагающих через бывшее поле, определить, давно ли злополучный фермер обнаружил, что песчаные равнины предназначены для того, чтобы культивировать уединение, а не кукурузу. Непосвященным сосны Банкса рассказывают всякие небылицы, потому что ежегодно дают не одну мутовку, а несколько. Более точен юный вяз, преградивший вход в коровник. Его кольца восходят к засухе 1930 года. С тех пор ни один человек не переступал этого порога с подойником, полным молока.
Я стараюсь представить себе мысли и чувства этой семьи, когда проценты по закладной в конце концов превысили доход от урожая и им оставалось только ждать выселения. Одни мысли улетают, не оставляя следов, точно вспорхнувший рябчик, но отпечатки других сохраняются десятилетиями. Тот, кто в каком-то незабвенном апреле посадил вот этот сиреневый куст, должно быть, с удовольствием предвкушал его цветение во всех грядущих апрелях. А та, что каждый понедельник терла белье на этой почти уже гладкой стиральной доске, возможно, мечтала, чтобы все понедельники поскорее кончились раз и навсегда.
Погруженный в такие размышления, я вдруг замечаю, что все это время пес терпеливо продолжает делать стойку у журчащею ключа. Я подхожу к нему, извиняясь за свою рассеянность. Фрр! — летучей мышью вспархивает вальдшнеп, и его розовато-оранжевая грудь словно облита октябрьским солнцем. Так вот мы и охотимся.
В подобный день трудно сосредоточиться на рябчиках — слишком много интересного вокруг. Я натыкаюсь на оленьи следы па песке и из чистого любопытства иду вдоль них. Они ведут от одного куста цеанотуса прямо к другому, и ощипанные веточки объясняют почему.
Тут я вспоминаю, что и мне пора завтракать, но прежде чем я успеваю достать сверток из кармана для дичи, высоко в небе начинает кружить ястреб, которого необходимо определить. Я дожидаюсь, чтобы он сделал вираж и показал свой красный хвост.
Опять лезу в карман за свертком, но мой взгляд падает на тополь с ободранной корой. Здесь олень сдирал бархат со своих зудящих рогов. Давно ли? Обнаженная древесина уже побурела. Значат, рога теперь совсем очищены, решаю я.
И вновь хочу достать завтрак, но меня отвлекает возбужденный лай моего пса и треск кустов на болоте. Внезапно из них вырывается олень. Хвост его поднят, рога блестят, шерсть отливает голубизной. Да, тополь сказал мне правду.
Наконец, я извлекаю сверток и сажусь завтракать. За мной следит синица и доверительно сообщает, что ужо позавтракала. Чем именно, она не говорит. Возможно, матовыми муравьиными яйцами пли другим каким-то птичьим эквивалентом холодного жареного рябчика. Кончив завтракать, я оглядываю фалангу молодых: лиственниц, уставивших в небо свои золотые копья. Под каждым осыпавшиеся вчерашние иголки устилают землю дымно-золотым одеялом, на острие каждого сформировавшаяся завтрашняя почка ждет наступления следующей весны.