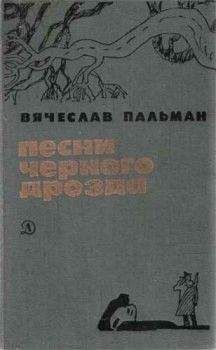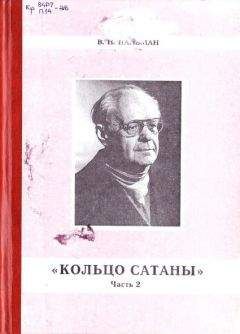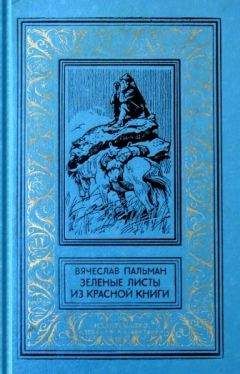Круг оленей сжимался. К Хобику подходили со всех сторон. Ланки — вытянув шею и трепетно подрагивая ноздрями. Сверстники — смелей, глаза их горели от любопытства. Вот круг сомкнулся, со всех сторон протянулись добрые ушастые мордочки, началось детальное исследование сородича. Кто-то уже торкнулся носом в плечо, кто-то толкнул, вызывая на игру, но одна из оленух фыркнула, и все подались назад.
У Хобика от усталости и боли подкашивались ноги. Бесцеремонное рассматривание беспокоило его, и он не нашёл ничего лучшего, как только лечь, отдавшись судьбе: будь что будет.
У каждой оленухи в стаде имелся свой ланчук. И вся материнская ласка, вся забота, как в фокусе, сходились на собственном подростке. Чужой оленёнок, в каком бы трудном положении он ни находился, не мог отвлечь мамашу от своего ребёнка, и, может быть, поэтому все оленухи ограничились только сочувственным приёмом. Никто не тронул Хобика, не прогнал. Более того, сверстники наверняка приняли бы его в свою компанию. Но он не мог сейчас отвечать на заигрывания. Раны болели, нос у него высох, а самочувствие сделалось такое, каким бывает оно у всякого больного ребёнка: только-только не хныкал и не куксился.
Хобик лежал, поджав ноги, и все время обречённо закрывал усталые глаза. Стадо понемногу разбредалось, утратив интерес к больному. Отлежится…
Через несколько минут около него осталась только одна довольно старая оленуха. Она обошла его раз, другой; уши её размягченно повалились в разные стороны, глаза выражали не любопытство, а сострадание к сироте.
Оленуха тронула его носом, он приоткрыл и снова смежил глаза, словно просил оставить его в покое. Осторожно исследовав поцарапанную спину, доброе животное вдруг едва коснулось раны языком, потом лизнуло ещё раз, морщась от противного запаха дикого кота. Хобик вскочил. Видимо, стало больно. Даже отошёл на несколько шагов. Оленуха последовала за ним и опять лизнула уже настойчивее. Он увернулся, но докторша вошла в роль, прижала его к стволу берёзы и принялась за своё дело с энергией и знанием. Больной перестал увиливать: видно, понял своим маленьким умишком, что для его же пользы стараются, стоял смирно, а затем, осмелев, в свою очередь ткнулся сухим носом в ноги добровольной няньке и даже потёрся мордочкой о шерсть, стараясь снять натёкшую в слёзную ямку кашицу, от которой чесался нос.
Вскоре спина его была гладко зализана, шёрстка закрыла царапины, боль поутихла. Настроение улучшилось. Когда оленуха отошла, Хобик потянулся за ней. Она стала щипать траву, и он пристроился рядом, так, чтобы пастись нос к носу. Насытившись, оленуха легла в тени. И он прилёг возле неё. Сделалось хорошо, покойно, не страшно. Хобик сразу уснул, голова его упала, нижняя губа отвалилась, и он стал выглядеть, как все дети его возраста: милым, беспомощным, разомлевшим.
Оленуха смотрела из-под слегка опущенных век. Взгляд её, спокойный и тёплый, ласкал найдёныша.
Она глубоко вздохнула. Может быть, вспомнила своего родимого, которого не сумела уберечь в эту долгую и тяжёлую зиму…
Её оленёнок как две капли воды походил на этого.
Только не было у него треугольного выреза на левом ушке.
4
— Хо-бик! Хо-бик! — чуть не с мольбой кричал Саша. Он вышел из укрытия, пробежал немного вниз, навстречу оленёнку, но того и след простыл.
Звук человеческого голоса свалился в долину, где паслось первое стадо, отскочил от скал, повторился несколько раз, и этого было достаточно, чтобы все дикие звери, чьих ушей достигло эхо, с непостижимой быстротой покинули места, вдруг ставшие опасными.
Долины словно вымерли. Сумерки сгустились, стало тихо-тихо.
Саша вернулся в укрытие, поправил сбитое полотнище и принялся ладить костёр. Нащепал косырем лучины, отобрал десяток сухих веток, порубил их, поставил над лучиной шатром и, отыскав берестяной обрывок, поджёг. Береста взялась; он сунул растопку под дрова, и вскоре бесшумный огонь начал весело лизать каменную стену.
Ночь пала на горы, в темноте исчезли долины, леса, скалы; костёр вырывал из чёрной тьмы только кружок в три метра шириной, а когда Саша отводил глаза от пламени и смотрел в черноту, то видел непроницаемую стену, за которой спрятался таинственный, широкий мир.
Запахло разваренной гречкой. Запах щекотал ноздри. Саша достал банку говядины, косырем срубил жесть и вывалил мясо в котелок. Там сыто забулькало, и он потянулся к рюкзаку, чтобы отыскать ложку.
Но где же Архыз?
Он находился довольно далеко, километрах в пяти от стоянки Молчанова, за перевальчиком, где среди густейшего боярышника, ветки которого уже разукрасились длинными и толстыми почками, спокойно и как-то небрежно лежал запыхавшийся Хобик.
Стадо оленух, приютившее его прошлой осенью, и старая ланка, которая с истинно материнской заботой выхаживала всю зиму своего приёмыша, — все они умчались дальше, дивясь, наверное, про себя поведению найдёныша. Приёмная мать его, бежавшая последней, несколько раз оглядывалась, даже останавливалась, беспокойно шевелила своим коротким хвостиком, выдавая волнение, а ему и дела нет. Сперва остался в кустах, потом не спеша пробежал ещё немного за стадом, но так, чтобы не терять из виду бело-чёрного волка, а потом и вовсе свернул в сторону и увёл за собой погоню. Что он? Решил пожертвовать собой ради спасения стада или хочет гибели?
Но Хобик не помышлял ни о смерти, ни о подвиге. Он просто узнал друга детства и, естественно, захотел с ним встретиться, стараясь пересилить вполне понятный страх. Вон какой он рослый, этот щеночек, которого Хобик девять месяцев назад мог запросто отбросить копытцем в дальний угол двора. Себя-то оленёнок не видел, но у Архыза, по-видимому, мелькали схожие мысли, и собака испытывала стеснительность, отдалённо похожую на ту, которая возникает между мальчиками, вдруг встретившимися после долгой разлуки. Вроде и близкие, и чужие.
Хобик увёл Архыза в эту долину и неожиданно лёг. В пяти метрах от оленёнка вытянулся на влажной подстилке и Архыз и даже глаза закрыл. Ночь. Чего же не поспать?
Немного погодя Хобик поднялся и, осмелев, обошёл Архыза, особенно тщательно исследовав ремённый поводок. Тут он фыркнул с какой-то негодующей нотой. Атрибут рабства… Архыз лежал спокойно.
Оленёнок набрался смелости и лёг поближе. Архыз завалился на бок, как бывало в молчановском дворе. От его мокрой и тёплой шерсти сильно запахло, и этот запах отогнал Хобика. Все-таки страшновато.
Словом, знакомство возобновилось, и оно продолжалось бы долго, не вспомни Архыз о хозяине. Он с беспокойством вскочил, поднял тупой нос и принюхался. Никаких признаков костра. И тогда, даже не помахав хвостом на прощание, Архыз побежал назад, волоча поводок. Ночь поглотила собаку.