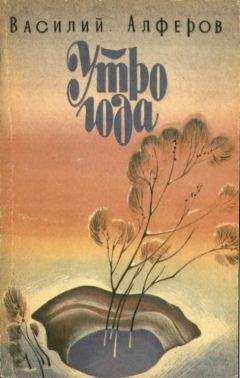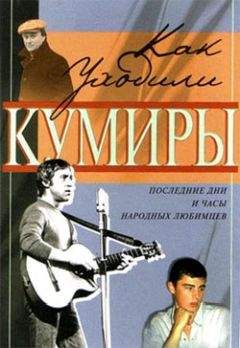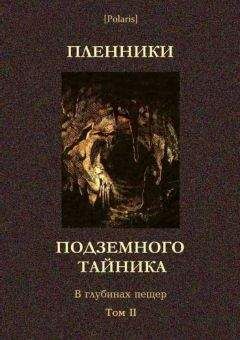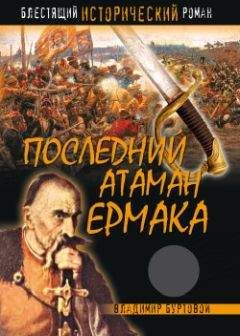— У Гриньки Полынина изба-то с форсом. Того и гляди, плясать пойдет, — часто балагурили мужики.
С виду изба хотя и неказиста, но внутри было все на своем месте: глинобитная печь, подтопок, полати, половицы со скрипом и, как полагается, стаи тараканов в укромных уголках. В этой избе «с форсом» нас жило семь человек: отец с матерью, бабушка и мы, ребятишки. Самым старшим был я, средним — братишка Симка, двухлетняя сестренка и совсем еще маленький братишка, названный по настоянию матери Иваном, в память ее отца.
За Бурдовской слободкой стояли три мельницы-ветрянки, а от них вправо и влево виднелись гумна, сенницы, амбары. Под горой, возле Сухой речки, возвышались одноногие колодезные журавли с тяжелыми дубовыми бадейками, опоясанными железными обручами. В мелкой речке плавали гуси, в лужах, зарывшись по уши в грязь и сопя от удовольствия, лежали свиньи. Поодаль, на зеленой лужайке, помахивая хвостами, паслись телята. По дорогам ветер поднимал легкую, как зола, пыль, во дворах перекликались на разные голоса петухи, озабоченно кудахтали куры…
И все это — до боли родное. Нет ничего дороже той сторонки, где прошло твое детство. А все виденное и слышанное — от выжженных зноем полей до жалобного скрипа ставней и вечной нужды — запомнилось на всю жизнь.
Мы с Яшкой — ровесники и даже ростом одинаковы. Только Яшка — черноволосый, смуглолицый, застенчивый, а я — белоголовый, скуластый, непоседливый. Меня побаивались мальчишки, уважали мужики за смелость и находчивость и называли почему-то «отпетым», а над Яшкой при каждом случае насмехались, дразнили «вареным». Зато бабы умилялись Яшкиной застенчивостью, тихой, грустной задумчивостью и с нежностью говорили:
— Ангел, а не мальчишка! Тише воды, ниже травы…
А меня, напротив, костерили на чем свет стоит: и провалиться бы мне в преисподнюю, и чтобы меня сатана в пекло уволок!.. И все это из-за того, будто бы я сманивал ихних ребятишек куда-нибудь в лес, откуда они возвращались в изодранных рубашках и штанах. А я вовсе и не сманивал — они сами липли, не давали проходу, напрашивались. А мне что, жалко что ли? Иди! Но этого никто не хотел понимать. Даже моя родная мать, и та под натиском рассерженных баб вставала на их сторону. Желая доказать им, что и она не дает своему сыну потачки, мать иной раз утюжила меня так, что только «пух летел».
Самым надежным и честным товарищем был Яшка. Что бы ни произошло, он никогда не плакал, не жаловался матери и не сваливал свою вину на других, а всегда открыто признавался в том или ином проступке. Правда, Яшка был тихий, нерасторопный, боязливый, однако он умел постоять в нужный момент за товарища, не давал маху. Вот это-то нас и сблизило, и сдружило.
Мы с Яшкой никогда не дрались. Ну, бывали случаи — посердимся немного, поспорим, и снова как ни в чем не бывало. Многие диву давались: почему мы друг с другом не полыщемся? И только дядя Максим, как ему казалось, правильно угадывал секрет нашей мирной жизни.
— У них один с огнем, другой — с водой, — говорил он про нас. — Тут, брат, пожар никогда не вспыхнет…
Где бы мы с Яшкой ни были, что бы ни делали, на уме было одно: чем-нибудь да помочь родителям, что-нибудь да принести в дом.
Однажды мы пошли на Волгу разорять стрижиные гнезда. Там, в крутых, обрывистых ярах, — сотни глубоких норок. Это и есть гнезда стрижей.
«Яйца стрижей, если поджарить их на сковородке, вкусные», — сказывал нам Яшкин дедушка.
Придя на Волгу, мы не сразу принялись за гнезда. Сверху показался большой пассажирский пароход. Мы стали гадать, какое у него название. Яшка первый крикнул:
— Чур, мой пароход!
Мне стало обидно, что товарищ опередил меня, и я решил: прочту название парохода раньше, чем он. Пока Яшка прищуривал глаза и старательно вытягивал губы, читая по складам название, я громко выкрикнул, подпрыгнув от радости:
— «Владимир Мономах»!
Проводив пароход и помахав ему вслед рукой, мы принялись обшаривать гнезда.
Стрижи с криком кружились над Волгой, поминутно залетали в свои норки и тут же снова вылетали из них.
Яшка набрал десятка два еще не насиженных яиц. А мне хотелось захватить стрижа в гнезде.
Сунув руку в одну из норок и нащупав в ней что-то мягкое, я закричал:
— Стрижата! Голенькие!
Яшка насторожился и замер в ожидании, когда я выну стрижат.
Вытащив из норы гнездо, свитое из сухих травинок, я чуть не выронил его из рук, потом быстро бросил к Яшкиным ногам. Яшка от испуга высыпал яйца из подола рубашки.
Каково же было наше удивление! Вместо стрижат в гнезде, свернувшись клубком, лежал уж. Подняв головку с желтым венчиком, он собрался было удрать, но я придержал его.
Яшка нашел здоровенную суковатую палку и кричал издали:
— Давай, Вась, убьем его!
— Убивать не надо, — сказал я. — Дома посадим его куда-нибудь и будем держать до тех пор, пока он не сбросит с себя старую кожу.
Ужиная или змеиная выползина в деревне считалась лучшим лекарством от нарывов. Яшка согласился со мной и, вспомнив, что у его дедушки сильно нарывает рука, бросил палку.
Домой я нес ужа сначала за хвост, вниз головой, потом повесил на руку.
Уж присмирел и висел, точно ременная плеть. Яшка заискивающе спросил:
— Дедушке нашему дадим маленько выползины?
— Дадим, дадим, — ответил я.
Дома мы нашли старое ведро без дна. В самом дальнем углу огорода, в чаще высокой лебеды и крапивы, пропололи небольшую полянку и чуть углубили ведро в землю. Потом посадили в него ужа.
А вот чем кормить его, мы не знали. Решили наловить кузнечиков. Яшка отправился охотиться за ними, а я остался за караульщика.
Яшка скоро принес кузнечиков. Мы оторвали им ножки и крылья и положили в ведро, покрыв молочаем. Уж не шевелился, и нам казалось, что он захотел спать, а когда выспится, съест всех кузнечиков.
Так мы провозились до вечера. А когда пошли домой, плотно закрыли ведро обломком доски, а сверху положили тяжелый камень.
На другой день, рано утром, Яшка прибежал ко мне с наловленными кузнечиками, и мы понесли ужу завтрак.
Яшку больше всего волновал вопрос, скоро ли уж сбросит старую кожу, потому что у дедушки все сильнее болела рука.
— Сейчас бы открыть, а там — выползина!.. — сказал он, когда я начал снимать с ведра камень.
Открыв ведро, я выбрал оттуда молочай и от изумления раскрыл рот. Ужа в ведре не было.
Я чуть не заплакал с досады. Мы заметили на дне след, просверленный в мягкой земле точно буравом. Уж сделал подкоп и удрал.