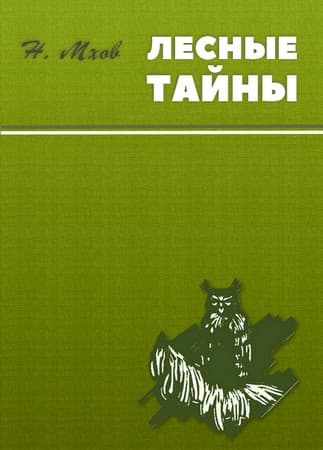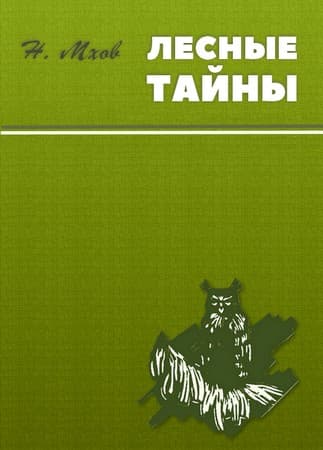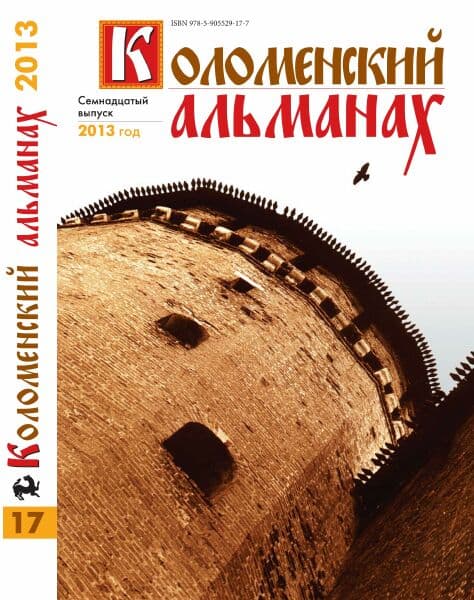встречать и всегда получал от этого истинное удовольствие.
Я уверен, если бы при встрече не было посторонних, Анна Степановна нежно бы припала к его широкой груди, а он целовал бы ее в лучистые, преданные глаза. Но в нашем присутствии он только удивленно спрашивал:
— Пришла? — и, схватив в охапку Любу с Ленькой, легко приподнимал их от земли, целовал под счастливый визг обоих.
— Все шумишь! — опуская на землю детей, смеялся Андрей Лукич, и глаза его светились таким же радостным, искренним чувством.
Потом он здоровался со мной. Мы по-мужски, крепко пожимали друг другу руки, он гладил ласкающуюся к нему собаку, и все усаживались на траву.
Закусив, отдохнув, распределив между всеми соразмерно силам каждого, содержимое мешков, веселые, довольные, неторопливо возвращались домой.
III
И так полюбилась мне эта лесная, глухая деревушка, что не было года, когда бы я не приезжал сюда на весенние тока, на осенние выводки и нередко зимой на зайцев и волков.
Ленька оказался страстным, неутомимым охотником, вернее, даже талантливым охотником.
Можно очень хорошо, почти без промаха, наловчиться стрелять навскидку, досконально изучить повадки любой дичи, прекрасно знать особенности каждого вида охоты, постигнуть все тонкости скрадывания и подхода к токующим косачам и глухарям, но чувствовать дичь дано только талантливому охотнику. Сначала мне было просто непонятно это удивительное, необычайное Ленькино свойство каким-то особенным, утонченным, чувством ощущать присутствие дичи.
Бывало Марго стремительно мелькает в березняке и знаешь, что никого здесь нет, так как, если бы была дичь, собака обязательно бы прихватила и повела. По росе, на ягоднике, по наброду ошибки никогда у ней не получалось!
Но вдруг Ленька осторожно дергает меня за рукав и взволнованно, прерывисто шепчет — он всегда от волнения говорил шепотом, с придыханием:
— Выводок!
И действительно, проходит несколько минут, и Марго с ходу застывает в картинной стойке.
Первое время я подтрунивал над его «знахарством», но потом понял, что эта замечательная особенность есть свойство избранных, что это — талант.
Так, талантливый художник чувствует и передает те тончайшие оттенки красок, которые делают живым изображаемое им на картине, а истинный музыкант извлекает из инструмента волшебные звуки, которые пробуждают в душе глубокие, прекрасные порывы.
Поняв это, я, обладавший уже немалым охотничьим опытом, почувствовал себя учеником его и стал относиться к охоте с ним очень серьезно.
На следующий год после нашего знакомства я привез ему централку двадцатого калибра.
— Это мне?!
Бледнея, он прижал ее к груди. От восторга он не мог ничего выговорить, смотрел на меня широко раскрытыми глазами, не веря свалившемуся невыразимому счастью.
Его бурная радость так растрогала добрую Анну Степановну, что она прослезилась, а Люба обняла его за плечи и, слушая горячий, прерывистый шепот, уговаривала:
— Ну, успокойся, дурашка! Смотри, как мамку растревожил!
Потом Ленька подошел ко мне, сдержанно произнес:
— Спасибо!
Хотел что-то еще добавить, но губы дрогнули, слезы брызнули из глаз, и он молча кинулся мне на шею.
Вместе с ружьем я привез ему гильзы, порох, дробь, пыжи, пистоны, закрутку, барклай.
Он сейчас же пристроился у окна набивать патроны.
В прошлом году, уезжая, я снял мерку, с надбавкой «на вырост», с его ноги, а зимой заказал по ней охотничьи, высокие, сапоги. Купил ему ягдташ с подсумкой частой вязки, приобрел кожаный патронташ на двадцать четыре патрона и все это вместе с сапогами передал ему.
Сколько было радости! От избытка чувств, забыв все слова, он схватил мою руку и молча прижался к ней.
Анна Степановна зашумела на весь дом:
— Избалуешь парня! В конец избалуешь!
Но добродушные ямочки на щеках и веселые глаза никак не вязались с криком.
— Любка, неси муку! — неожиданно заключила она и засуетилась ставить пироги.
Ленька сейчас же все надел на себя и сразу преобразился в ладного, подбористого охотничка.
— Ну, Ленька, теперь ты настоящий егерь! — любуясь им, воскликнула Люба.
С этого момента и осталось навсегда за ним прозвище: Ленька-Егерь.
Ночевать он не пошел, как всегда, со мной на сеновал, а остался дома, около своего ружья.
На рассвете, когда я поднялся, он уже ожидал меня у крыльца во всем своем охотничьем уборе, с ружьем, форсисто закинутым за шею.
К открытому окну подошла Люба. Как бы рано мы ни собирались на охоту, она обязательно выходила проводить нас добрым пожеланием «ни пуха, ни пера»!
Вся налитая распустившейся молодостью, как березка весной, она ласкала взор, светилась и манила своей деревенской, румяной, русской красотой.
В это утро Ленька впервые убил дичь из собственного ружья. Марго повела, замерла у края поляны, удобной для обстрела… Ленька вскинул к плечу ружье, плотно прижал щеку к ложе и, жарко передохнув, облизал сухие губы.
— Не горячись! Не дрожи, выцеливай спокойно и близко не стреляй! — строго предупредил я и швырнул кепку.
Выводок с шумом дружно поднялся из-за куста. Ленька выстрелил, рванулся было к упавшему тетереву, но я успел схватить его за плечо и крикнуть совсем так, как кричал на собаку, когда во время натаски она срывала стойку:
— Назад!
Ленька сразу пришел в себя и, устыдившись своей несдержанности, вытер картузом вспотевшее лицо.
Марго опустилась, вытянув передние лапы, высоко подняв точеную, скульптурную, голову.
— Учись! — кивнул я Леньке на нее.
Ничто так не портит собаку, как невыдержанность охотника. Упала дичь — спокойно стой, отложи стволы, продуй их, перезаряди. Если собака продолжает стоять, быстро, не сходя с места, приготовься к стрельбе. Если сошла, забегала, подзови, огладь, успокой и пошли неторопливо снова в поиск.
Не удержи я Леньку, Марго могла бы — ведь в этот момент все собачьи нервы напряжены до предела! — броситься за ним, и, если бы выводок не поднялся, а затаился, напороться на тетеревов, и без стойки разогнать всю дичь.
В лесу я с Ленькой держался всегда на равных охотничьих правах, не делая никаких скидок на его мальчишеский возраст. И как ни жалок был его сконфуженный вид, я непреклонно потребовал от него сдержанности, точного выполнения обязательных охотничьих правил, грозя в противном случае прекратить охоту.
Он поклялся самой страшной для него клятвой — ружьем! — что больше «ни в жисть не затрясется, не побежит» и вообще будет держать себя «по-охотницки».
И, надо отдать ему должное, он ни разу не нарушил своей клятвы. Даже когда подранок побежал, волоча перебитое крыло, Ленька пересилил страстное желание броситься за ним. Он только прошептал, прерывисто дыша, указывая дрожащей рукой на шевелящиеся травинки:
— Убегеть!..
Я молча кивнул на Марго: она переставила лапу и снова замерла в напряженной, до