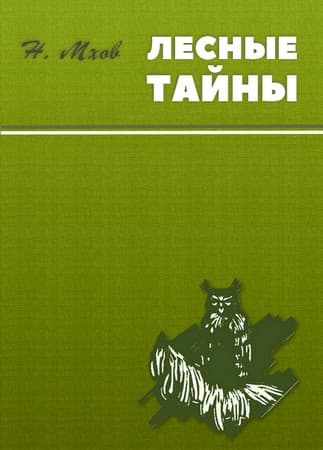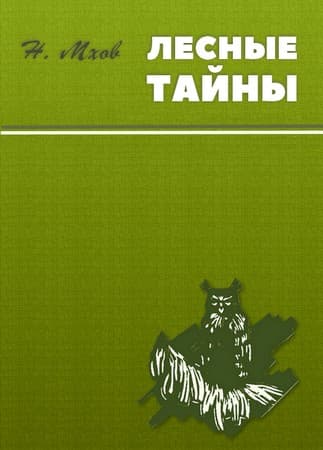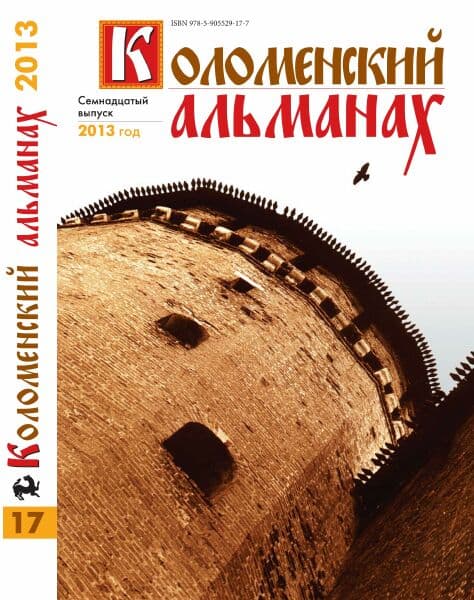раньше других взрослым стал!
Она не преувеличивала: охота сделала его зрелым, взрослым, но и сохранила в нем детскую непосредственность чувств к отцу, матери, сестре. Постоянное общение с природой вырабатывало в нем правдивое отношение к окружающим и разумную требовательность к себе. Охота воспитала в нем настоящее мужество, непоказную храбрость — он никогда не лгал ни перед собой, ни перед людьми.
Обычно после августовской охоты я уезжал к себе в город и о дальнейшей жизни Леньки-Егеря узнавал по редким его скупым письмам.
Но удавались такие зимы, когда я получал возможность несколько дней быть свободным. Тогда, не теряя ни одной минуты, торопился скорее попасть в Стрелки к Леньке-Егерю, к дорогой мне семье.
Закупал все необходимое, опоясывался патронташем, брал на цепь старого костромича Аркашку, не ахти каких кровей и экстерьерных качеств, но вязкого, паратого, сильного, опытного выжлеца, прилаживал поудобнее рюкзак, снимал с лосиного рога залежавшееся в чехле ружье и спешил на вокзал.
До районного села успевал добираться обыденкой. Ну, а оттуда знакомой извилистой стежкой, запорошенной снежком, через короткое поле и дальше сплошь лесом, предвкушая радость встречи и бревенчатый уют жарко натопленной избы, пешком почти без малого все сорок километров.
С тех пор прошло много лет. Но и сейчас я живо представляю всю прелесть этого ночного путешествия. Был я молод, силен, привычен к ходьбе, и путь в сорок километров не казался, как теперь, непреодолимо длинным.
…Короткие сумерки быстро густеют, погружая лес в сизо-серую муть.
Аркашка, жалобно скуля, слезно вымаливает пустить его порыскать и, натягивая привязанную к поясу цепь, здорово помогает идти.
Незаметно наплывает темнота. В бархатной глубине неба искристой россыпью загораются звезды.
В наступающем безмолвии оживают древние сказы о дремучей глухомани. Лес, как замороженный саркофаг, стынет в холодном царственном уборе. Пахнет снегом и хвоей.
Сочно поскрипывает под валенками снежок, нешумно позвякивает собачья цепь, слышно: мягко падает еловая шишка. В морозную тишину ночи вплетаются какие-то непонятные, но четкие звуки: то ли дерево о дерево задевает; то ли ласка карабкается по обледенелой коре к спящей птице; то ли зайчишка кормится хрусткими прутиками, а может быть, покряхтывает еловая лапа под тяжестью плотного одеяла.
А вот и Стрелки. Там не ждут. Деревня спит. У первой избы встречает злобный лай проснувшегося пса, за ним начинает брехать хриплым басом шавка соседа, напротив из-под воротни выскакивает мохнатенькая шустрая собачонка, и через минуту все Стрелки наполняются отчаянным брехом встревоженных собак.
«Волки!» — думают разбуженные хозяева, не поднимаясь с угретых постелей.
Желанный высокий дом погружен в сон. Мороз плотно занавесил стекла, и они белесыми квадратами мертво стынут в черных переплетах оконных рам. На крыльце вместо ступенек пышный сугроб снега.
Утоптанная стежка ведет к черному ходу через крытый двор.
Тихонько стучу в заледенелое стекло. От нетерпения Аркашка поднимается на задние лапы, скребет передними о стену.
И вот вспыхивает в окнах тусклый желтый свет, слышатся невнятные голоса, шепот, суетня, хлопает засов воротины и в валенках, на босую ногу, в одной рубашке, без шапки выскакивает Ленька, бросается на шею, Аркашка с визгом прыгает, норовит лизнуть его в лицо, а из дома несется суматошный крик Анны Степановны:
— Любка! Ленька! Самовар!..
Люба стоит с накинутой на голову шалью, тихо смеется, ожидая, когда Ленька отпустит меня и я подойду к ней с радостными словами приветствия.
Ах, как хороши эти бесхитростные, сердечные встречи, какое радушие исходило от этих милых, простых людей!
Именно в такой вот непредупрежденный зимний приезд в темноте крытого двора вдруг обвили мою шею горячие со сна руки, опалил губы жаркий поцелуй и пылающая щека приникла к заиндевелому бобрику ватной тужурки…
А в доме уже топится лежанка, веселая струя пара бьет из самовара в потолок, на столе все что есть наилучшее, прибереженное для дорогого гостя. Ноги в горячих, прямо с печи, мягких валенках, взамен обледенелых своих, пиджак сброшен, ворот рубашки расстегнут, пахнет ржаным хлебом и каким-то еще не уловимым, домашним, уютным ароматом.
Расспросам, смеху, вскрикам, ахам нет конца, и уже пот пробивает на лбу и висках, и, наливая несчетный стакан чаю, Анна Степановна уже наклоняет за кран опорожненный самовар, и, наевшись до отвала всеми остатками обеда и ужина, Аркашка уже всхрапывает на половичке у двери, а голоса все не умолкают, и никто не обращает внимания на ходики, где стрелки подбираются к четырем.
Скупо объясняя, где и как охотился без меня, Ленька показывает шкуры волков, лис и зайцев.
Как не похож захлебывающийся рассказ о первой удачной охоте потешного, милого, веснушчатого Леньки-Егеря на это степенное объяснение рослого, серьезного, настоящего егеря!
Ленька встряхивает волнистые лисьи шкуры, дует в ворс, с удовольствием определяет:
— По первому сорту все пройдут!
Потом мы лежим вместе на широкой кровати и тихо разговариваем.
Тело охватывает приятная истома, но сон не идет: уж слишком радостно взбудоражены нервы, уж очень полна душа невысказанными, светлыми чувствами!
За перегородкой Анна Степановна хлопочет у печки, а Люба прибирает стол: слышен осторожный стук ухватов и звон посуды. Так и не спим до рассвета. Одеваемся, кладем в карманы по нескольку патронов и выходим на двор.
VI
Утро морозное, янтарное. Мы шагаем, тихо переговариваясь. Щеки покусывает ядовитый ветерок, смачно визжит под ногами снег. Широкие дубовые лыжи, схлестнутые за мысы веревочкой, скользят сзади, сухо ударяясь на раскате друг о друга.
Аркашка долго валяется, извиваясь, крепко трется спиной о снег, потешно дрыгая в воздухе лапами, потом сильно встряхивается и умильно смотрит в глаза, всей своей собачьей мордой выражая неизъяснимое наслаждение.
— К гону готовится! — серьезно объясняет Ленька. — Отбивает снегом дух псиный, чтобы не мешал чуять запах зайца! — и, запрокинув голову, порскает, играя голосом: — Ай-яя-аа-ай! Давай-дай-аяй!..
Аркашка деловито трусит дорогой впереди и, резко повернувшись, прыгает в снег.
Сказывается бессонная ночь и вчерашний сорокакилометровый путь: на ходу клонит в дрему и ноют мускулы ног.
Но вот издалека слышится голос Аркашки — скупой, басовитый, короткий.
Мгновенно исчезает вся усталь, слух обостряется, тело наливается упругой силой. Замерли. Слушаем.
Мороз опушил деревья инеем, и они стоят чистые, нарядные, как невесты в подвенечном уборе.
Чу!.. Опять голос! Еще, еще! Погнал!
Махаю егерю рукой. Понимая, он становится на лыжи и, взрезая рыхлую целину, исчезает, оставляя широкий, вдавленный след. Откуда-то налетает сорока, ее балабошный крик четко раздается в просторе багряного утра. Солнце золотит иней и заливает кровью шагреневую кожу сосен.
Я бегу по дороге до того места, где сошел в снег Аркашка, надеваю лыжи и шаркаю