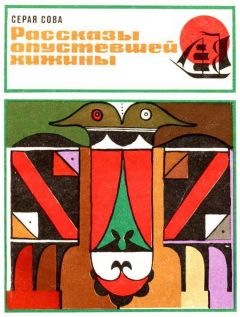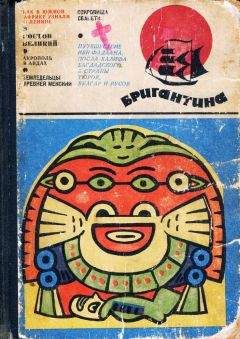Моя хижина в бобровом заповеднике — это не просто охотничий домик. Правда, она первоначально была задумана именно так, но потом подверглась причудливым изменениям благодаря предприимчивости и ловкости бобров.
Одна половина бобрового домика находится внутри моей хижины, другая — снаружи. Обе половины представляют собой прекрасное сооружение, перегороженное посередине стеной моей хижины. Это могло бы вызвать сомнения, показаться неправдоподобным, если бы фотокамера не запечатлела все на снимках и таким образом доказала справедливость моих слов. Наружная часть постройки сооружена на самом берегу озера — на площадке, которую я предполагал использовать для себя как пристань. Однако на этом участке, захваченном с веселой непринужденностью, вы найдете сооружение из сучков, палок и земли, над которыми бобры работают по ночам с непревзойденным трудолюбием и усердием. К бобровому дому, вытянувшемуся на тридцать, а то и больше футов, прикреплен плот из толстых бревен и веток — это бобры запаслись кормом на зиму.
А внутри земляной крепости раздается по ночам тихое бормотание, очень похожее на лепет детских голосов, слышны также голоса взрослых обитателей, это бобры-строители совещаются о новых усовершенствованиях и выполняют свои мудрые планы.
Мои лыжи, подвешенные на крюке, скучают в бездействии. Моя винтовка, дробовик и револьвер, смазанные маслом и очень чистые, висят на своем почетном месте на стене, как это принято в каждом охотничьем домике. Я прибегаю к их помощи, чтобы отпугивать медведей. Мой старый, растянутый от ноши длинный ремень аккуратно свернут на деревянном гвозде. Ножом, предназначенным для скобления шкур, теперь я разрезаю хлеб и копченую грудинку; инструменты и приспособления для окраски шкур лежат, забытые, без дела, на полочке и в ящике, скромно замаскированные, — это лишь реликвии прошлого, оставленные на память. Мои старые, выцветшие костюмы из оленьей шкуры, сильно потрепанные от многолетних странствований, печально поникли и висят друг за дружкой, их некогда задорная бахрома выглядит уныло и вяло — все ждут не дождутся ДНЯ, который больше никогда не придет ни для них, ни для меня. Ведь они отслужили свое время — все, за исключением длинного ремня, который найдет себе еще тысячу применений. И стоит лишь начать говорить о них, как сразу же будешь рассказывать об охоте и исследованиях, о далеких неизвестных местах, куда они путешествовали со мной, когда мы работали все вместе; всегда в пути, всегда в поисках того, что лежит за дальним холмом, всегда очарованные недоступным, — из всего этого получилась бы повесть, которую стоило бы рассказать.
Когда я сижу за столом и не знаю, что писать дальше, когда память отказывается мне служить, я грызу свой карандаш и гляжу на них. Мне кажется тогда, что эти старые безмолвные товарищи моих скитаний смотрят на меня с упреком, не понимая, как я мог забыть то славное прошлое, которое мы прожили вместе и когда каждый из них так много вложил в него.
Мне чудится, что они нарушают молчание и говорят: это происходило здесь или там; мы отправились туда, или же — это произошло таким образом; неужто я не помню, как мы поймали черную ласку на реке Испанской; разве можно забыть то место, где индейцы рассказали нам историю о Волшебном лесе, — как мы там расположились лагерем на берегу безымянного озера, где никто еще не бывал, и как мы голодали много дней.
Среди этих дорогих моему сердцу вещей есть длинный нож с узким лезвием, он воткнут острием вниз в потрепанные кожаные ножны, не для него предназначенные. Кажется, что он никогда не говорит, не то что другие вещи. Этот нож я нашел на обмелевшем берегу вблизи моей хижины, вместе со старым, ужасно длинным ружьем, которое заряжалось с дула. Металлические части ружья были все покрыты ржавчиной, а от ножа осталась лишь половина; я смастерил кожаную рукоятку на этом уникальном орудии и с тех пор всегда ношу его за поясом в старых ножнах, ему не принадлежащих; я отдаю должное ножнам как полезной вещи, но в то же время я считаю их своего рода талисманом и в душе надеюсь, что мудрость старого владельца, быть может, передастся мне.
И пока заржавевшее ружье, древний безмолвный нож и суровые вековечные сосны, охраняющие хижину, не заговорят, останется еще один рассказ, который никому не удастся написать.
Итак, моя хижина открыта, зайдите в нее.
Шесть лет назад канадское правительство взяло на свое попечение моих бобров, и мы все были зачислены в штат Национальных парков Канады. Так кончилась тревога за жизнь и благополучие маленьких четвероногих спутников моих скитаний. Нас должны были переправить в один из огромных Национальных заповедников Запада. Проехав длинный путь в тысячу миль в товарном вагоне — бобры в специально сконструированном для них жестяном ящике с вентиляцией, а я рядом с ними,— мы прибыли на место своего назначения, к подножию горы Всадник, почти через неделю. Это было тяжелое испытание, и мы очень все устали, но настроение у нас было хорошее.
Очутившись на новом месте, бобры не делали попыток отправиться на поиски воды, хотя в первую ночь они казались взбудораженными и сотню раз то выбегали, то вбегали в хижину, словно для того, чтобы убедиться, что я все еще там, на месте. Первое, за что они принялись, устраиваясь на новом месте, — это расчищать себе тропинку для выхода на берег озера; потом облюбовали себе площадку на том берегу и за месяц выстроили себе огромный дом; правда, они продолжали работать над ним все лето, пока он не достиг восьмифутовой высоты; поперечное сечение его было шестнадцать футов. Здесь у Джелли появилась ее первая меленькая семья. Приручать бобрят было нелегко, они были недосягаемы для меня, пока были маленькими, а когда уже немного подросли, были дикими, как ястребята.
Каждую ночь — с наступлением сумерек и до зари — я сидел неподвижно на каком-то застрявшем на мели плоту, на заболоченной части озера. Меня изводили москиты, целыми тучами нападавшие на меня, но я не мог защищаться, боясь испугать разведчика, который мог появиться из бобровой хатки. Здесь я просиживал часами, целыми ночами, пока наконец не приближался кто-нибудь из бобрят. Время от времени они проплывали мимо, иногда смотрели, словно узнавали меня, иногда же совсем игнорировали меня и не удостаивали взглядом. В конце концов они настолько привыкли к моему присутствию на плоту, что стали издавать какой-то слабый звук приветствия, когда проплывали мимо. Постепенно, видимо заинтригованные появлением такого странного существа, неподвижно застывшего на одном и том же месте, бобрята начали подплывать к плоту и, забравшись туда, смотрели на меня внимательно, должно быть, целую минуту, а потом скользили вниз, чтобы разобраться во впечатлениях. Они были абсолютно вне моего контроля, и ничто не заставляло их приближаться ко мне. Через некоторое время я обнаружил, что, соблюдая большую осторожность, можно дотронуться до зверьков; но стоило сделать какое-то неловкое движение, они исчезали и не появлялись всю ночь. Как бы там ни было, но время от времени ко мне на помощь приходила Джелли Ролль. Она подплывала к плоту со всей четверкой и играла с ними около меня: кувыркалась в воде, крепко прижав к груди детеныша; кружилась с бобрятами, резким движением тела разбрасывая их в разные стороны; потом начиналась веселая борьба с двумя или тремя бобрятами зараз, причем Джелли всегда уступала малышам роль победителей; это были забавные сценки, и я с удовольствием за ними наблюдал, хотя в результате этой веселой игры я оставался мокрым с головы до ног. Я всячески старался использовать выгодное положение и, бывало, просовывал руку в эту спотыкающуюся кучу борцов, а они, разыгравшись и, несомненно, подражая бобрихе, хватались за мои пальцы; скоро бобрята привыкли к незнакомому запаху человека и играли и возились со мной, как с матерью. Дальше все пошло легко. К концу месяца они стали ручными, следовали за мной, отвечали на мой зов и иногда с моей помощью залезали в каноэ. Как-то раз, когда после больших усилий мне удалось наконец заманить всех четырех в каноэ, примчалась Джелли, залезла в лодку и вытащила всех до одного оттуда. Родительский инстинкт, охраняющий детенышей, был тогда очень ярко выражен у Раухайда — отца бобрят. Бывало, когда, прибегая ко всем хитростям и уловкам, на какие я только способен, мне удавалось собрать около себя малышей, он врывался, разбрасывая бобрят в разные стороны, а потом прогонял их по одному, после чего возвращался ко мне и устраивался рядом. Я не пытался ломать эту привычку, так как понимал, что таков его собственный способ защиты и воспитания бобрят.