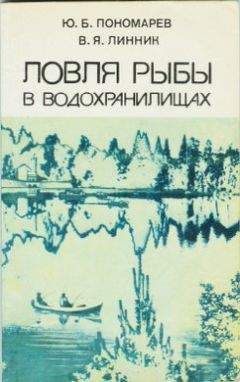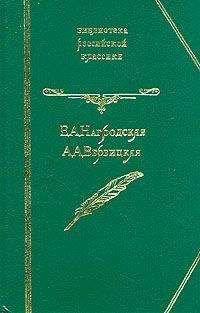— Простите.
Амза смущёно отошёл. Пёс гавкнул ему вслед. Только сейчас молодой Кагуа увидел Заура. Они молча вернулись к празднику.
— И какой сван! — восклицала баба Тина. — У-у! Таких нет больше. Самый мирный сван! И ведь — дирижер! У него свой оркестр; с ним в Москву ездил, в Ленинград ездил, — перечисляя, женщина зажимала пальцы и покачивала головой, — в Екатеринбург ездил!
— Так и сказал! — продолжал Туран. — Говорит, в гроб положите и всё! Мне такая не нужна. Я, это… Как же он… А! Говорит, я из чужой хлёбки есть не буду! О, как сказал! — мужчина ударил по столу кулаком.
— По голове стаканом стучат, глаза выкололи, а я терплю пока! — кричал соседу двоюродный брат Хавиды Чкадуа. — Но я хорош-хорош, а сердце остынет, свиньёй стану, и ни на что не посмотрю!
— Значит, ты мало аджики добавляла! Нужно больше!
— Был брат в Москве. Купил матери индюка и зашёл на Красную площадь — посмотреть. К нему, значит, милиционер: «Товарищ, на Красной площади с птицей нельзя!» Брат ему на голубей показал и говорит: «А это что, не птицы? Им почему можно?» «Ну! Это птицы мира!» — ответил милиционер. Брат ему: «А что, мой индюк с тобой воевать собирался, что ли?»
Амза слушал неумолчный гул людей. Он помнил своё обещание Дауту, но сейчас грустил. Уныло двигал по столу кружку; смотрел на худую луну, на звёзды.
Заиграли баян и ачарпын. Под звонкие ритмы и хохот начались ночные танцы. Мужчины, вскрикивая «Ас-с-са-а!», поднимались со скамеек; раскидывали руки; приседая, торопились ногами по влажной от росы траве; крутились; ударяли себя по бокам; шире раскрывали глаза. Женщины и те немногие девушки, что пришли во двор Кагуа, улыбчиво вступали в танец: вытягивали руки, пускали в разнобой подвижные пальцы; при этом тихо шагали. Батал и Саша, вспотев, затеяли ашацхыртру. Поднимались на мыски; складывая левую руку к груди, а правую выпрямляя в сторону, раскачивали колени, кружили вокруг пустого места, и в темноте, за обильным вином, можно было вообразить, будто на земле перед ними лежат битые, скрученные враги, в устрашение которым и танцевали мужчины. Прочие помогали ритмом громких хлопков.
Старухи пели частушки; старики вторили. Ветер холодил шею. Тело было жарким и влажным. Бася ждал подачек: ходил под столом, вылизывал опущенные испачканные в жиру ладони. Вино. Костёр в апацхе. Угли, искры. В танце тяжелеют ноги; приседая, можно упасть. Смех. Разговоры. Хочется лежать; живот тугой. Лицо утомилось от улыбки и теперь пульсирует ударами сердца. В глазах — влага; они отдыхают, когда закрыты; чтобы смотреть, нужно жмуриться. Батал скалился, вскрикивал. Местан дремал на веранде. Баян и ачарпын не утихали. Громкие слова в ухо; объятия; кто-то хлопает по плечу.
Амза поднялся в дом; упал возле кровати.
Пробуждение было долгим и сложным.
Вскоре совершеннолетие отпраздновал и Заур Чкадуа. Пришлось снова пить — Амза был этому рад.
Почтальон передал повестки. В них говорилось, что юношей ждёт осенний призыв. Первого октября в Лдзаа за ними приедет автобус; он соберёт призывников этого района, вывезет их в Сухум.
В последний день сентября Амза пришёл проститься с Бзоу.
Играть не хотелось. К тому же море было прохладным. Юноша гладил друга и молчал. Афалина, кажется, угадывал мысли человека, не настаивал на купании.
— Ты прости, я сегодня ненадолго. Надо ещё с родственниками собраться… Не верю как-то… Знаю, что не увижу тебя три года, или… совсем не увижу, но поверить в это не могу. Будто мне только на недельку отлучиться, как тебе тогда… А потом вернуться.
Амзе сделалось тоскливо; кто-то белым полотном вытягивал из его груди дух; при каждом вдохе глаза напрягались слезами; юноша замер, опасаясь заплакать.
Бзоу прежде никогда не был так тих.
— Не знаю, понимаешь ли ты, что сейчас происходит. И… поймёшь ли, когда-нибудь… Ты, конечно… Я… Не уходи. Дождись.
Амза забыл прихватить другу последнее угощение.
Афалина приподнялся из воды, показав две складки между ластами и головой.
— А ты толстеешь, — мягко улыбнулся молодой рыбак.
Бзоу проводил лодку к берегу и, как это иногда случалось, взобрался на мель.
Юноша вышел на дорогу; дельфин, выждав минуту, откатился к глубокой воде, уплыл — его плавник, то появлявшийся над морем, то в нём утопавший, вскоре стал маленьким, едва различимым.
На короткой колоде сидел Ахра Абидж. Амза кивнул ему, но заторопился к дому; молодой Кагуа видел, что старик поднял руку, подзывая к себе, но притворился, будто не заметил этого. Ахра, должно быть, хотел проститься.
Амза остановился возле калитки. Сел на траву, положил голову на колени. Не хотелось никого видеть. «Неужели, всё? Только начиналось лето. Я знал, что оно пройдёт, что… Но не так быстро! Ведь его и не было вовсе… Да и… Боже! Я не прав… Мне уже не увидеть Бзоу, а я… был сух с ним. Почему не принёс рыбку, почему не искупался с ним? Меня заберут только завтра — я ещё здесь. Не понимаю… Я так и не научился жить». Хотелось сейчас же всё исправить: вернуться на берег, со смехом броситься в волну, развеселить Бзоу; подойти к Ахре и сказать тому что-то доброе, хорошее, чтобы старик улыбнулся… Амза знал, что не сделает этого.
«Думаешь, что время идёт медленно. Потом, глядя на ушедшие месяцы, понимаешь, что был неправ. Но истинно ощущаешь скоротечность всего в последний день. Только что было утро. Уже вечер. Следующей секундой придёт новое утро; да нет — ещё быстрее…»
Баба Тина днеём собрала орешки бука — пожарила, убрав горечь яда, и уложила в мешочек, внуку в путь; Амза их любил; быть может, потому что те зрели к его дню рождения.
Уснуть не получилось. Тело было слабым; случалась дрёма, но сном она так и не сменилась.
Утром Амза поднялся рано. Разнообразные, нередко противоречивые образы, беспокоившие его ночью пёстрым сумбуром, в миг разлетелись, не оставив о себе даже слабого воспоминания; так тёмные души, собравшиеся в глубоких землянках, втягиваются в щели, едва путник зажигает спичку, от неё — свечу. Юноша спустился во двор; сумрачно и влажно. Прошёлся по любимой тропинке к душу — пальцами тревожил пугливые мимозы. Молча и без улыбки наблюдал за тем, как они, складывая листья, кланяются ему вслед. Хотелось выйти к морю, но Амза отчего-то был уверен, что в такой прогулке обнаружится ещё бо?льшая печаль. «Да и Бзоу сейчас не приплывёт».
Хибла обняла сына; перекрестила и попросила чаще писать. Были и другие слова, но молодой Кагуа их не слышал. В ногах тёрся Местан. Бася не объявлялся, о нём и не вспоминали. Две курицы, выпущенные во двор, бодро перебегали между кустов, поглядывали на петуха. Мать и бабушка поцеловали Амзу; стоя у калитки, они махали ему рукой. Хибла вновь попросила чаще высылать письма. Дом остался позади, но пока что ничего не изменилось; юноша шёл по знакомой дороге, мимо привычных деревьев. Под вещи ему отдали единственный в семье чемодан. Карман на брюках оттопырился из-за вложенного мешочка с буковыми орешками.