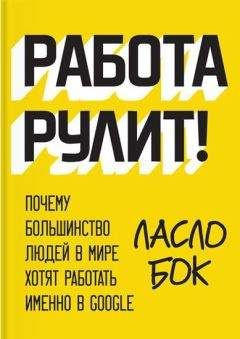Бегают по липкой пашне скворцы и кричат чибисиными голосами. Видно, устали чибисы в пути и скворцы обогнали их. На лету подхватили чибисиные унылые крики и унесли их с собой. А может, налетела на чибисов беда, может, снежные вихри заломили им крылья и понесли по земле. Не долетела бы песня домой, если бы не скворцы.
Весна — вот и торопятся песни домой. Песни спешат наперегонки. Песни летят как на крыльях!
Ещё не поют в лесах тетерева. Ещё только ноты пишут.
Пишут они ноты так. Слетает один с берёзы на белую поляну, надувает шею, как петух. И семенит ножками по снегу, семенит. Крылья полусогнутые волочит, бороздит крыльями снег — нотные строчки вычерчивает.
Второй тетерев слетит да за первым по снегу как припустит! Так точки ногами на нотных строчках и расставит:
— До-ре-ми-фа-соль-ля-си!
Первый сразу в драку: не мешай, мол, сочинять! Чуфыкнет на второго да по его строчкам за ним:
— Си-ля-соль-фа-ми-ре-до!
Прогонит, поднимет вверх голову, задумается. Побормочет, побормочет, повернётся туда-сюда и лапками на своих строчках своё бормотание запишет. Для памяти.
Потеха! Ходят, бегают — расчерчивают снег крыльями на нотные строчки. Бормочут, чуфыкают — сочиняют. Песни свои весенние сочиняют и ножками да крыльями их на снегу записывают.
Но скоро кончат тетерева песни сочинять — начнут разучивать. Взлетят тогда на высокие берёзки — сверху-то хорошо ноты видно! — и запоют. Все одинаково запоют, ноты у всех одни и те же: бороздки да крестики, крестики да бороздки.
Всё разучивают да разучивают, пока снег не сойдёт.
А и сойдёт — не беда: по памяти поют. Днём поют. Утром и вечером поют.
— Здорово поют, как по нотам!
Всё, что случилось зимой в лесу, — всё скрыл снег. Злодейство ли, доброе ли дело — всё погребено в сугробах: снегом укрыто, метелью заглажено. Ни памяти, ни следа.
Но пришла оттепель, и всё вышло наружу. Всё, что копилось, всё, что скрывалось, выступило напоказ. Оттаяли хвоинки, прутики, листики, кусочки коры. Везде под кузницами дятлов грудами лежат шишки.
Вот перья вороны, которую в конце зимы разорвал ястреб. Вот подснежные спаленки-лунки рябчиков и тетеревов. В них они спали в самую глухую зимнюю пору. Тут снеговые тоннели крота: ишь ты, он и в снегу искал червяков!
Шишки, сброшенные клестами и оглоданные белками. Подстриженные зайцами ивы.
А вот землеройка, задушенная и брошенная лаской. Вот хвостик белки-летяги — остатки обеда куницы.
Будто листаешь прочитанную книгу и рассматриваешь картинки.
Ветер и солнце долистают белую книгу. Скоро покажется и обложка-земля. Тогда все зимние происшествия встретятся, соединятся и растворятся в тысячах и тысячах других, скопившихся на земле за долгие-долгие годы.
Вся земля под ногами — это бывшие происшествия.
Зима — тяжёлое время. Даже могучие звери прячутся в берлоги и норы. Трудно представить, что где-то сейчас, в тайничках под снегом, лежат окоченевшие бабочки. Бывало, чуть ветер, чуть дождь, а они уже сникли. И пыльца на крылышках сбилась и потускнела.
Но они есть, они ждут; ждут весну и тепло.
Бабочка крапивница зимовала в стогу. Солнце нагрело стог, и заструилось от него тепло. К теплу, на припёк, и выползла неловкая и сонная бабочка. Подкрылышко одно отпало, другие оббились, стёрлась пыльца. Нелегко зимовать в стогу.
Крапивница отогрелась и затрепетала от нетерпения. Качнулся ветерок, она вспорхнула и понеслась.
И вдруг её обдало жгучим морозом; вокруг стога ещё лежали снега. Лес и луга в снегу: один стог оттаял и высох. Крапивница сникла и опустилась на снег.
Хорош мартовский снег: в гранях и блёстках, с весенней голубизной. И крапивница на нём как первый цветок.
Но кому красиво, а крапивнице — смерть. Уже окоченела совсем, когда тёплая струйка ветра от нагретого стога протянулась и к ней; она встрепенулась, вспорхнула и понеслась по тёплой струе, как по знакомой дорожке. Струйка-тропинка привела её к стогу.
Каждый солнечный день теперь вылетает крапивница полетать. Смело носится над заснеженным полем. Но далеко не улетает. Текут от стога нагретые струйки, колышутся за ним, как невидимые ленты. Крапивница чувствует их тепло, они для неё — как дорожки к жизни.
Всё выше солнце, всё жарче стог, всё длиннее тёплые струи-дорожки. Всё дальше и дальше отлетает по ним от стога крапивница. Пока однажды не долетит до первой большой проталины. Там и останется весну встречать.
Песенку овсянки мы сначала и слушать не хотели: уж больно проста. Да и певица невидная: сидит неподвижно на ветке, прижмурив глаза, и поёт одним голосом:
— Синь-синь-синь-си-и-нь!
Но нам сказали, что хоть и одним голосом она поёт, да о разном.
— Вы только вслушайтесь, — сказали. — Слышите?
— Синь-синь-синь-си-инь!
И верно, вокруг синь! Как мы раньше этого не заметили! Небо синее, дымка над лесом синяя, тени на снегу — как синие молнии. А если ещё и глаза прижмурить, — всё станет синим. Синий месяц март!
— Это ещё не всё, — сказали. — Послушайте-ка её в апреле.
В апреле овсянка песенкой своей давала советы. Увидит возчика в розвальнях на раскисшей дороге и запоёт:
— Смени сани, возьми во-о-з-з!
В мае у овсянки песня та же, но совет другой. Увидит, что скотник сено коровам несёт, и сразу:
— Неси, неси, неси, не тру-си-и!
— Ишь ты, — усмехается скотник. — И откуда она знает, что сено у нас к концу?
Любит овсянка возле человеческого жилья петь. Одна у неё песенка, только каждый переводит её на свой лад.
Незаметно зажглась и тихо начала разгораться в небе алая полоска зари. Утренний ветерок прошумел в вершинах берёз. Тонким перезвоном оледенелых хвоинок отозвались ему высокие сосны.
Внизу, в глубокой темноте леса, явственней зажурчал невидимый ручеёк. И весь лес стал полниться чуть слышным шуршанием, шорохом, хрупким хрустом, тихим звоном — звуками неодушевлённой жизни. И каждый звук был сам по себе: то хруст ветвей, то звон капель, а то посвисты жёстких хвоинок.
Но вдруг все эти отдельные хрусты, звоны и свисты соединились и зазвучали слаженно и живо.
И вот возникла — просто, как живая струйка воды из-под глыбы снега, — родилась в предрассветной мгле лесная песенка. Возникла и полилась тихо, полная робкой радости, светлой весенней грусти. Это запела зарянка.