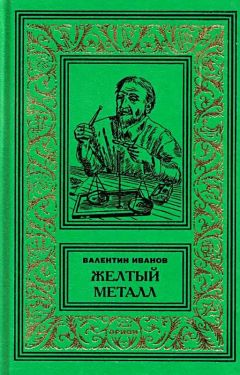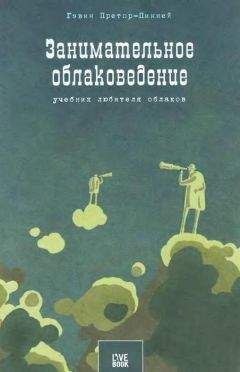— Больше — не больше, Володя, я предлагаю тебе четыре кило — и по двадцать восемь.
Опершись обеими руками на диван, Бродкин приподнялся и переменил положение. Теперь он привалился в углу, удобно вытянув ноги. Татарский халат разошелся на пухлой, почти женской груди, по-медвежьи обросшей густой шерстью. Не глядя на Трузенгельда, Бродкин рассуждал:
— В сущности, Миша, — он умел правильно выговаривать слова, когда хотел, — ты несправедлив к людям. Ты только носишь металл туда-сюда. По настоящей честности, тебе хватило бы полтинника (подразумевалось пятьдесят копеек с грамма). — А сколько хочешь ты заработать? Скажи, Миша, честно скажи, как старому другу? Скажьи?
Слово «скажи» Бродкин произнес очень мягко, и опять Трузенгельду послышалась насмешка.
— Что тебе за дело, Володья? — Трузенгельд невольно передразнил Бродкина. — Я имею дело с людьми, я договариваюсь, я рискую.
— Рискуешь? Э!.. Рискует тот, кто вкладывает капитал! Тот рискует по-настоящему, а маклер? Ф-фа! — И Бродкин дунул на ладонь, с которой вспорхнула воображаемая пушинка. — Раз — и маклер считает свои комиссионные. Он больше ни о чем не думает. Маклер собирает там, где не сеял, — изложил Бродкин одно из положений своей самодельной политэкономии.
— Я работаю на собственном капитале, — возразил Трузенгельд. — И этот металл мною куплен.
— Покажи! — Бродкин протянул руку с длинными мохнатыми пальцами.
— Что? Я буду носить, с собой в кармане? — парировал Трузенгельд.
— М-мм?.. — недоверчиво и вопросительно проворчал Бродкин и предложил: — Двадцать… — он косил глаза на Трузенгельда, — шесть!
— Ты хотел бы лишить меня и полтинника? — спросил Трузенгельд.
— Зачем, Миша!. Бери свой полтинник, иди с богом, не теряй времени.
— Двадцать семь и девяносто пять, — сбросил Трузенгельд пятачок.
Сторговались они через пылких полчаса, наговорив один другому немало колкостей и совершив десятки покушений на остроумие. А после соглашения о цене возникла проблема расчетов: Бродкин требовал кредита на неделю, Трузенгельд — расчета наличными.
— Ага, Миша, — торжествовал разгоряченный Бродкин, — я же тебе всегда говорю: ты только маклер, у тебя нет своего капитала, ты торгуешь воздухом, ты имеешь на моем капитале!
— Мои деньги сейчас в другом деле, — неудачно возразил Трузенгельд, защищаясь от тяжкого обвинения, а Бродкин вовсю пользовался ошибкой продавца:
— Та-та-та-та! Значит, один оборот ты делаешь на свои деньги, а другой на мои? Ах, ты!.. — Бродкин обратился к своей привычке ругаться сквернейшими словами. — Ты еще и не видел того металла, который мне предлагаешь, вот что! Что? Ты хочешь, чтобы я тебе выписал чек на Госбанк? Получай! — И Бродкин состроил Трузенгельду кукиш.
Трузенгельд вернул ругательства с процентами и предложил Бродкину два кукиша, но торг вернулся опять к цене.
Изощряясь в доказательствах, волнуясь, споря, будто бы дело шло о жизни и смерти, они разошлись вовсю и «жили» полностью. Бродкин забыл о больной печени, жестикулировал, бегал из угла в угол, выгнав комнатную овчарку Лорда, чтобы собака не путалась под ногами. Трузенгельд ковылял на месте, переваливаясь с длинной ноги на короткую и становясь то выше, то ниже.
Хватая друг друга за грудь, они одновременно хрипели, шипели, свистели, сипели, брызгали слюной.
И когда, наконец, сделка совершилась, Бродкин вместо крыльев обмахивал себя полами халата, а Трузенгельд вытирался салфеткой, сорванной в пылу схватки со столика.
Марья Яковлевна предложила мужчинам позавтракать. Бродкин ворчливо отказался выйти в столовую:
— Вели этой, как ее, подать мне сюда.
Домашние работницы менялись часто, и Бродкин подчеркнуто делал вид, что не может запомнить имени новой: шпилька жене, которая не умеет «обращаться с прислугой». Новая работница жила в доме лишь несколько дней. Перед расставанием с предыдущей между мужем и женой состоялось крупное объяснение. Не в первый раз Бродкин безуспешно внушал жене, что умные люди обязаны создавать себе в «прислуге» не врагов, а друзей, что «в наше время» особенно глупо не понимать такой очевидной вещи: выживать работниц каждые три месяца просто опасно! Но и прежде трудновато было бороться с проявлениями характера Марьи Яковлевны, теперь же, после переезда мужа в кабинет, и совсем невозможно: Бродкин, по его словам, «сдыхал от бабьего визга».
Смягчая крикливые нотки своего голоса, Марья Яковлевна угощала Мишу яйцами всмятку «от своих кур», макаронами с тертым сыром, селедочкой и сухим «Цинандали». Отдыхая после торга, Трузенгельд не спешил. День был будничный, но Миша располагал временем.
Трузенгельд состоял в одной артели главным механиком и одновременно начальником штамповочного цеха. Техник-машиностроитель, Трузенгельд был знающим, дельным специалистом, ценимым артелью, пользовался положительной репутацией в правлении и в городских организациях. Артель, выпуская ширпотреб, план перевыполняла, а себестоимость была ниже плановой. В успешной работе крылась заслуга и главного механика, который по обеим должностям и с премиальными законно зарабатывал свыше двух тысяч в месяц — ставку кандидата наук, что совсем не плохо для техника.
Первую половину дня Трузенгельд провел на своем рабочем месте, а сейчас никому и в голову не пришло бы проверять, куда ушел главмех: в городской или районный Совет, в правление или к кому-либо из смежников. Разве случится авария…
Как это выяснилось в дальнейшем, Михаил Федорович действительно к своим служебным обязанностям относился добросовестно.
Мужчина крепкий, телосложения нормального, если не думать о короткой ноге (впрочем, Марья Яковлевна и не собиралась танцевать с Трузенгельдом), Миша в последние годы привлек благожелательное внимание Мани. И это внимание росло по мере ухудшения здоровья мужа. Миша был моложе мадам Бродкиной на пять лет, но в ее глазах это не было недостатком, наоборот. Она чувствовала себя совсем молоденькой, хотя прошло двадцать лет со времени ее первого, жгучего увлечения красавчиком Володей Бродкиным. Теперь Володи не было, — был желчно-раздражительный, больной Владимир Борисович. Не было и Манечки Брелихман — вот этого-то она и не знала и не чувствовала.
«На что дурище зеркала?» — такой саркастический вопрос Бродкин иногда задавал, но лишь себе самому. Он следовал завету: «Посоветуйся с женой и поступи наоборот» в расширенном виде — не только не советовался, но и не дразнил ее.
После завтрака Марья Яковлевна поднялась к себе наверх, — ей было необходимо «посоветоваться» с Мишей, — и заперлась с ним в спальне, чтобы беседе не помешали.