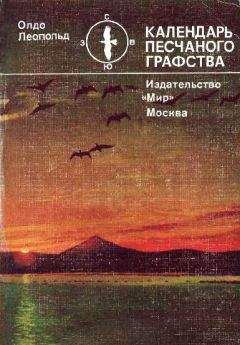Я сижу в автобусе, который со скоростью 60 миль в час мчится по дороге, некогда предназначавшейся для двуколок. Ленту бетона все расширяли и расширяли, пока кюветы не уперлись в изгороди, разделяющие поля. На узенькой полоске между выбритыми откосами и изгородью виднеются останки того, чем некогда был Иллинойс, — прерии.
Никто в автобусе их не замечает. Хмурый фермер, из кармана которого торчит счет за удобрения, смотрит невидящими глазами на люпины, леспедецу и баптизию, которые некогда перекачивали азот из воздуха прерии в чернозем его будущих полей. Он не отличит их от наглого захватчика пырея, среди которого они растут. Спроси я его, почему кукуруза приносит ему сотню бушелей с площади, которая в штатах, где никогда не было прерии, хорошо если даст тридцать, он наверняка ответит, что в Иллинойсе почва лучше. А спроси я его, как называется вон то льнущее к изгороди растение с белыми, как у гороха, цветками, он пожмет плечами. Сорняк какой-то.
Мимо проносится кладбище, обрамленное желтокорнем. Нигде больше желтокорня нет — современный ландшафт получает желтую гамму от пупавки и осота. Желтокорень прерии беседует только с мертвыми.
За окном раздается будоражащий душу свист длиннохвостого песочника: было время, когда его пращуры следовали за бизонами, которые брели, утопая по плечи в безграничном море ныне забытых цветов. Мальчик успел заметить песочника и сообщает отцу: «Вон бекас полетел».
Вывеска гласит: «Вы въезжаете в Гривриверский округ охраны почв». Буквами помельче обозначены все, кто принимает в этом участие, но из движущегося автобуса разобрать ничего невозможно. Так сказать, реестр, кто есть кто в деле сохранения почвы.
Вывеска очень аккуратненькая. Поставлена она у ручья, на лугу, таком маленьком, что хоть в гольф играй. Неподалеку видна красивая излучина сухого русла. Новый ручей течет по линейке — специалист-мелиоратор «разогнул» его русло, чтобы ускорить сток. На заднем плане — холм с ленточными посевами. Специалист по борьбе с эрозией «согнул» их по контурам холма, чтобы замедлить сток. Такое обилие рекомендаций, наверное, ставит воду в тупик.
На этой ферме все говорит о приличном счете в банке. Дом и двор щеголяют свежей краской, сталью, бетоном. Дата на амбаре увековечивает первых поселенцев. Крыша щетинится громоотводами, флюгерный петух сияет позолотой. Даже свиньи выглядят платежеспособными.
У старых дубов в леске нет потомства. Нет ни живых изгородей, ни кустарника, ни жердяных заборов, ни других признаков безалаберного хозяйствования. На кукурузном поле пасутся жирные бычки, но вот перепелов там, наверное, нет. Изгороди занимают лишь узкие полоски дерна. Тот, кто допахивал прямо до колючей проволоки, наверное, повторял про себя старую пропись: «Ничего не оставляй втуне».
В кустах у луга разлив разбросал всякий мусор. Берега обнажены: большие куски иллинойсской земли обвалились и отправились в путь к морю. Буйные заросли амброзии показывают, где полые воды оставили ил, который не смогли унести с собой. Кто, собственно, тут платежеспособен? И надолго ли?
Шоссе туго натянутой лентой ложится через поля кукурузы, овса и клевера. Автобус отсчитывает мили благоденствия, а пассажиры говорят, говорят, говорят. О чем? О бейсболе, о налогах, о зятьях, о кинофильмах, о машинах, о похоронах. И ни слова о земляных волнах Иллинойса за окнами автобуса. У Иллинойса нет ни происхождения, пи истории, ни мелей, ни глубин, ни отливов и приливов жизни и смерти. Для них Иллинойс — всего лишь море, по которому они плывут к неведомым пристаням.
Вспоминая ранние впечатления детства, я спрашиваю себя, не является ли так называемый процесс взросления, процесс становления личности на самом деле процессом обезличивания, не сводится ли хваленый опыт взрослых к постепенному разжижению основ жизни мелочами будничного существования. Во всяком случае, несомненно одно: мои первые впечатления от дикой природы и диких существ сохраняют необыкновенную четкость формы, цвета и атмосферы — даже полвека профессиональной работы с дикой природой не смогли ни стереть их, ни что-либо к ним добавить.
Подобно большинству честолюбивых охотников, я в детстве получил одностволку и разрешение охотиться на кроликов. Как-то зимой в субботу, по дороге к моим излюбленным кроличьим угодьям, я заметил, что в покрытом льдом и снегом озере, там, где с берега стекала теплая вода от ветряка, появилась небольшая «отдушина». Все утки давно уже отправились на юг, но я тут же сформулировал мою первую орнитологическую гипотезу: если где-нибудь в наших краях задержалась хотя бы одна утка, рано или поздно она опустится на эту полынью. Я укротил свою страсть к кроликам (в то время для меня немалый подвиг), сел среди обледенелого водяного перца на мерзлую глину и стал ждать.
Ждал я до вечера, и от каждой пролетавшей мимо вороны, от каждого жалобного стона ревматичного ветряка мне становилось все холоднее и холоднее. Наконец на закате одинокая кряква появилась с запада и, ни разу не облетев полыньи, сложила крылья и спикировала на воду.
Выстрела я не помню — ничего, кроме невыразимого восторга, когда моя первая утка шлепнулась на заснеженный лед и осталась лежать брюхом вверх, дергая красными лапами.
Даря мне дробовик, отец сказал, что я могу охотиться на куропаток, но ни в коем случае не стрелять по ним, когда они сидят на деревьях: я уже достаточно взрослый, чтобы стрелять влет.
Моя собака прекрасно загоняла куропаток на деревья, и, отказываясь от верного выстрела по сидящей птице ради почти верного промаха по летящей, я затверживал первые уроки этики. Что такое все семь царств дьявола по сравнению с куропаткой, сидящем на дереве!
На исходе моего второго бескровного сезона охоты на куропаток я как-то пробирался через густой осинник, как вдруг слева от меня загремела крыльями большая куропатка и, взмыв над осинами, молнией пронеслась за моей спиной в сторону ближайшего кипарисового болотца. Это был выстрел навскидку, о каком мечтает любой охотник на куропаток, и птица рухнула на землю в вихре перьев и золотых листьев.
Я бы и сегодня мог точно обозначить на плане каждую веточку красного дёрена, каждую голубую астру, украшавшие мох, на котором лежала она — первая моя куропатка, сбитая влет. Наверное, с той минуты я люблю дёрен и голубые астры.
Когда я впервые приехал в Аризону, плато Уайт-Маунтин еще оставалось владением всадников. На нем почти не было дорог, доступных для фургонов. Автомобили еще не существовали, а для пешего хождения расстояния были слишком велики, и даже пастухи там ездили верхом. В результате это обширное плато, или, как называли его местные жители, «Вершина», стало владениями конника — конного скотовода, конного овцевода, конного лесничего, конного охотника и всех тех загадочных всадников, неведомо откуда взявшихся и неизвестно куда направляющихся, без которых никогда не обходятся новоосваиваемые земли. Нынешнему поколению трудно понять аристократизм, опирающийся исключительно на средства передвижения.