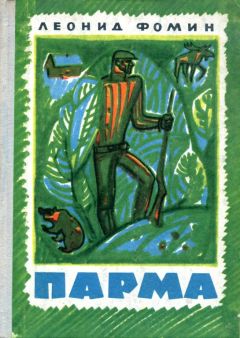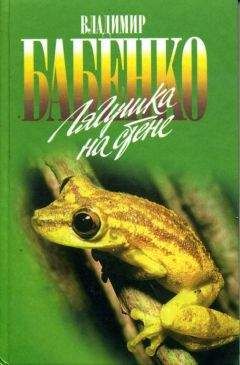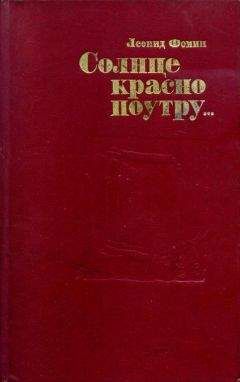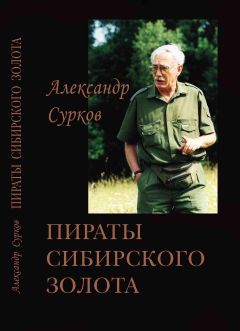Маска
Днем на поляну прилетел сорокопут, уселся на самый торчок молодой елки и принялся вызванивать: «тррень, тррень, тррень…» Вокруг тут же закрутились синицы.
— Красивая птичка, — улыбнулась Галина. — Грудка светлая, будто пеплом присыпанная, крылья пестрые, как у щегла, а уж голос какой — мелодичный да звонкий! Только совсем ни к чему эти черные пятна на щеках. Словно маска на глаза надета…
Маска… Как же я раньше не замечал ее? Ведь этой маски, пожалуй, и не хватает до полной характеристики сорокопута-жулана — маленького, хитрого хищника, которого вся певчая братия принимает за безобидную птичку.
Не раз я наблюдал за ним. Присядет вот так же на боярышник, растренькается, вроде бы ни до чего и дела нет, а сам зорко поглядывает по сторонам — куда кто летит, кто где сидит. Ага, вон там, в смородиновом кусте, гнездо славок. Хлопотливые птички-родители то и дело выпархивают на поляну, ловят насекомых.
Разбойник перестает кричать, хищно сложив крылья, ныряет в куст. И тут уж добра не жди. Всех птенцов он, конечно, не съест, сам невелик, но все равно загубит, заклюет весь выводок.
Я рассказал об этом Галине, и она искренне огорочилась. Пошла и спугнула хищника. Вернувшись, сказала:
— Жаль, что птицы не замечают подлинной натуры сорокопута. Иначе не очень бы доверялись. Но ведь любую маску не так-то просто разглядеть.
Утром неизвестно откуда к нашей палатке пришла лошадь. Ни пут, ни уздечки на ней не было. Она домовито обнюхала котелки, подобрала мягкими губами оставшийся на газете кусочек хлеба и, убедившись, что люди на месте, стоя уснула.
Лошадь не сдвинулась и тогда, когда мы вышли и загремели посудой. Худая, со спутанной гривой, лишь изредка открывала доверчивые глаза, старчески всхрапывала и переступала с ноги на ногу. По всему чувствовалось — долго была в лесу одна и вот, наскучавшись, пришла к людям.
Другое дело, был бы рядом табун. Тогда бы, наверно, она прибилась к нему. Но теперь табунов мало. Теперь вообще лошадей не лишку. Их заменили машины. И, вероятно, со временем заменят совсем. Но ведь лошадь останется лошадью. Что же ей делать? Невозможно представить безработной эту испытанную веками трудягу.
Глядя на дремлющую старую лошадь, пришедшую к людям как бы за советом, я вспомнил другой случай.
В шуме городской улицы под шелест проносившихся по асфальту «Волг», «Москвичей», «Запорожцев» раздалось четкое цоканье копыт. Среди автомобилей мягко катилась телега на резиновых шинах. На ящиках с фруктами восседал возница в берете.
Прохожие разом обернулись. Они удивились появлению в центре большого города лошади. Оказывается, это уже небуднично, непривычно.
И только один немолодой человек с бугристым шрамом через всю щеку смотрел на лошадь без праздного любопытства. Кто-кто, а он-то, пожалуй, помнил, сколько их, безропотных, полегло от пуль вместе с лихими седоками на полях сражений, сколько миллионов тонн перевезли они на стройках молодой Страны Советов, сколько вспахали необозримых российских земель. Они всегда были рядом, бесконечно преданные, и этому раньше никто не удивлялся.
Поздно вечером я пробирался густой уремой лесной речки. Никак не мог найти тропинку, на которой час назад оставил рюкзак, закрытый на случай дождя полиэтиленовой пленкой. Раздвигал руками упругие ветки черемух с гирляндами зелено-бурых, твердых, как горох, дозревающих ягод, ошаривал глазами мрачные проходы под лиственной завесью, надеясь увидеть белую, а потому заметную в темноте пленку.
И наконец увидел.
Но каково же было мое удивление, когда, подойдя ближе, я обнаружил вовсе и не пленку, а буйно цветущую ветвь черемухи. Это в конце июля-то! Заглушая вокруг все запахи, сладостно тянуло весенним ароматом.
Я присел на корточки, стал рассматривать дивную ветвь. Что же случилось с ней, почему с таким запозданием она зацвела? Давно еще, зимой, видно, прошел этим местом сохатый, наступил в глубоком снегу на развилку деревца и сломил. То ответвление, что осталось нетронутым, весной распустилось, отцвело положенное под майским солнцем и теперь спело ягодами. А отломленный стволик долго хворал, лежа на сырой, скрытой от солнца земле, и загиб бы, может, совсем, но сила жизни взяла свое. По узкому лоскуту уцелевшей на сломе коры поверженная ветвь капля по капле пила земной сок и медленно поправлялась. К середине лета кора ее обрела прежний влажный оттенок, набухли почки.
А как же с весной, этим великим началом жизни? И ветвь, исполняя непреложный закон бытия, зацвела. Зацвела торопливо и бесшабашно, напрягая всю силу больного тела. Розовой пеной покрылся излом, сок проливался на землю, а ветвь цвела.
Тут я поверил, что эта черемуха будет жить. Отцветет свое, пустит новые корни, выпрямится и встанет в ряд с подругами. А пока я помог ей — выломал вокруг бесполезно разросшийся и скрадывающий свет ольшаник.
Все притихло под жаркими лучами полуденного солнца. В овсах перестали «полоть» перепела, умолкли в черемухах соловьи, попрятались в тень осоки болотные курочки. Еще трясогузки недолго бегали по прибрежному наноснику с раскрытыми клювами, но и они скоро улетели пережидать жару к своим гнездам под сваи мельницы.
Мелководная речная старица парила, пуская к небу дрожащие дымки. Ни ряби, ни всплеска на ее будто уснувшей, затянутой листьями лилий поверхности. Только прыткие водомеры бегали на открытых от водорослей окнах, да в нагретом воздухе летали стрекозы.
Стрекоз было много. Потрескивая слюдяными крыльями, они в одиночку, парами, стайками реяли над старицей, гонялись друг за дружкой, присаживались на лилии, осторожно обмакивали в теплую воду хвосты и снова летали. Всякие тут были стрекозы — и серые, в мягких махровых одежках, с нежно дышащими «темечками» на брюшке, и большие, рыжие, с длинными трубчатыми хвостами, и такие же большие, только синие, с перламутровыми горошинами глаз. Были и совсем малютки, голубенькие стрекозки, с прозрачными, почти невидимыми крылышками, и лазурно-золотистые, умеющие подолгу «стоять» в воздухе, как бы разглядывая что-то, и, наконец, серебристо-фиолетовые, похожие на диковинных бабочек.
Весело, наверно, жилось этим стрекозам: день-деньской они затеивали игры, летали наперегонки, купались, отдыхали, ловили и «походя» ели пискучих комаров. В своем непреходящем восторге опасно они иногда играли: слетевшись в воздухе, сплетались крыльями и, кувыркаясь, падали в воду. Тут уж не до шуток: упадут на чистину, где не за что уцепиться лапкой — и прощай лето красное!