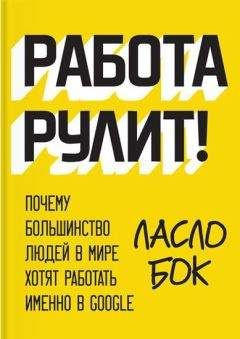— Стреляй, Миша, — смеюсь я, — свали барана.
— Ружьё у меня харчистое, — говорит Миша, — заряд в нём большой, на болотную мелюзгу тратить жалко. Пусть пасутся себе.
Шёл я просекой. Вдруг слышу — стучит! На пути сухое дерево. Я к дереву — никого! Посмотрел наверх — дупло. А внизу, под сухостоиной, свежая посорка. Дятел старается!
Только старается он не на дереве, а в дереве. На сушине козырьком гриб-трухляк. Под грибом дупло, как слуховое оконце. Ударил я каблуком по дереву, — в слуховое оконце высунулась носатая голова в красной тюбетейке.
— Здравствуй, помощник!
Люблю я дятлов.
Дятлы поедают много разных вредных короедов, нам, лесникам, помогают. Увидел меня дятел, испугался и улетел.
Нелегко дятлу носом своим, как топором, вырубить в сухом дереве дупло для гнезда. А тут мешают ещё!
Я больше дятлу не мешал. Но покоя ему не было. То вихрь раскачивал сухостоину. То косой ливень заливал дупло. А однажды забралась в дупло лупоглазая белка-летяга. Дятел кричал, прыгал у дупла, а летяга спокойно смотрела на него большими птичьими глазами из оконца под грибком.
И только когда я палкой стукнул по сухостоине, летяга выскочила и полетела, как кленовый лист, распластавшись в воздухе.
Каждый раз, шагая по просеке, я прислушивался: стучит ли? И слышал: стучит! Стук стал совсем глухой, видно, дятел долбил уже глубоко. А под деревом всё росла и росла кучка жёлтой посорки. И уже теперь, когда я стучал сапогом по сушине, дятел не улетал, а только выглядывал. Тюбетейка у него была засыпана трухой.
Однажды, проходя просекой, я увидел ястреба-перепелятника. Он промчал над самой моей головой и вдруг закружил вокруг сухостоины, шаркая крыльями по коре. А по сушине, спасаясь от ястреба, заметался мой дятел. Дятел в дупло, ястребок — хвать! И, видно, цапнул! Полетели пёрышки. Я выстрелил, и разбойник упал. А дятел выпорхнул из дупла и прицепился на соседнее дерево. Он нахохлился и спрятал клюв в перья. Белые пёрышки на крыле покраснели от крови. Выживет ли?
Назавтра, шагая по просеке, я ещё издали навострил ухо. И слышу: стучит!
На радостях я так грохнул сапогом в сушину, что она качнулась.
В окошке под грибком показалась знакомая носатая головка в красной тюбетейке. Работяга весь был в древесной трухе. Он сердито покосился на меня одним глазом, качнул носом — будто чихнул. Видно, труха в ноздри набилась.
— Будь здоров! — крикнул я дятлу.
Дятел нырнул в дупло и застучал опять. Ему было не до шуток. Он спешил закончить своё гнездо.
Будет у меня летом целая семья помощников.
Жил я в лесу. Один-одинёшенек.
Скучно одному. «Хорошо бы, — думаю себе, — хоть щеночка завести. Весёлого, ласкового. Учил бы его уму-разуму. Вот скуки бы и не было».
В лесу щенков нет. Собрался я в деревню. Дорога туда была неблизкая.
Вышел из лесу, пошёл полем. Шёл-шёл — устал. Присел отдохнуть.
Хорошо летом в поле! Кругом рожь шелестит. Вдруг слышу: будто пикает кто-то тихонько во ржи…
Раздвинул колосья, а там целое лукошко яиц! Лукошка-то, правду сказать, никакого нет, — прямо на земле яйца лежат, в ямке. И много их: двадцать штук я насчитал!
Лежат и — вот чудеса! — переговариваются. На птичьем языке — писком.
— Пик! — скажет одно яичко.
— Пик-пик-пик! — отвечают другие. Осторожненько взял я одно яйцо и приложил к уху.
«Пи-ик!» — испугалось яичко. Потом что-то ворохнулось в нём, тюкнуло изнутри в скорлупку — и притихло.
Ясно: в яйце готовый цыплёночек! Гнездо — я знал это — красивой полевой курочки — серой куропатки. Куропатка-мама куда-то пропала. Может быть, ушла надолго. А может быть, и совсем не вернётся: где-нибудь ястреб её подхватил или хорёк поймал. Птенчики и волнуются. Пищат. Чувствуют, что пропадут без мамы.
Положил я обратно яйца. Задумался: что сделать?
Верно ведь: выклюнутся — непременно пропадут они. Сколько кругом врагов-то!
Надумал: никакого мне щенка не надо! Сбегаю домой, принесу корзиночку, сложу в неё яйца. Будет у меня целых двадцать цыпляток — жёлтеньких, прехорошеньких. Кормить их буду, учить уму-разуму. Какая уж тут скука с ними!
— Пик! — тревожно пискнуло в одном яйце.
— Пик-пик-пик-пик! — тревожно отозвалось в других.
Боятся, бедненькие, одни, без мамы! Надо спешить.
— Не пикайте! — крикнул я им. — Живо прибегу, заберу вас к себе домой.
И побежал к себе в лес — за корзиночкой.
Прибегаю назад — нет в ямке яиц, одни пустые скорлупки лежат!
А из ржи с треском и шумом вырвалась вдруг красивая курочка с шоколадной подковой на груди. Взлетела, пала на дорогу — и побежала по ней, волоча по земле крылья.
— Знаю вас, знаю! — крикнул я ей. — Не обманешь!
Это была, конечно, куропатка-мама; они всегда так притворяются, чтобы отвести человека подальше от своих птенчиков.
— Очень рад, что тебя никто не съел. А одного сынка я всё-таки возьму у тебя, чтобы мне в лесу не так скучно было одному.
Я посмотрел себе под ноги. Там во ржи лежало одно только целое яичко.
Я нагнулся, чтобы взять его. Но яичко вдруг вскочило на ножки и побежало!.. Я даже руку отдёрнул от неожиданности. Потом кинулся его ловить, схватил… но в руке у меня осталась только сломанная скорлупка.
Просто это половина скорлупки прилипла к влажному пуху птенчика. Куропатка-мама ещё не успела склюнуть её с сынка, он так и бегал со скорлупкой на спине. Я освободил его от скорлупки, он шмыгнул от меня в густую рожь, только я его и видел!
— Ну, этим птенчикам я не нужен! — решил я. — Боевые ребята. Пойду-ка к себе в лес: там, наверно, найдутся какие-нибудь бесприютные птенчики, которые могут пропасть без моей помощи. Пойду поищу.
Пошёл в лес.
В сухом ельничке с муравьиной кучи свечой взлетел рябчик. Во все стороны с кучи — как шарики — покатились крошечные рябчата. Они были в пуху и летать ещё не могли.
У меня глаза разбежались: кого ловить?! Кинулся за одним, кинулся за другим, в третьего шапкой бросил — и всех упустил!
Рябчата затаились — будто шапки-невидимки надели.
— Ладно, — думаю, — ваше счастье, что вы так хорошо умеете прятаться! — И пошёл поднимать свою шапку.