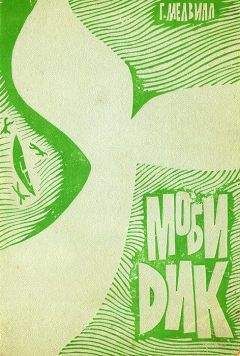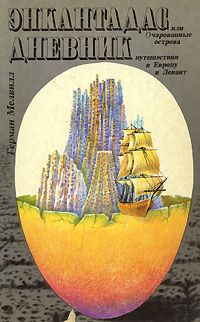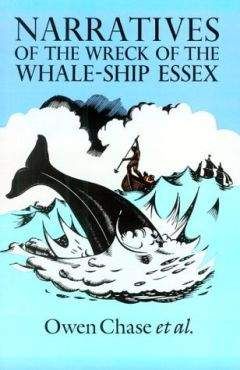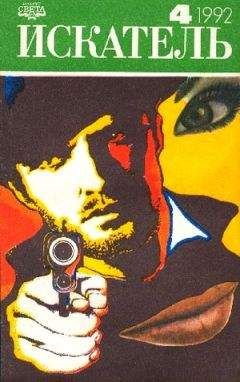Так вот я утверждаю, что не после тяжких трудов должен гарпунщик браться за оружие, а после полного отдыха — тогда и работа его будет успешной.
Глава сорок третья
Ужин Стабба и проповедь кока
Своего кита Стабб убил довольно далеко от корабля. Был штиль; впрягшись цугом, три вельбота медленно потащили добычу к «Пекоду». И вот несколько часов мы, восемнадцать мужчин, своими тридцатью шестью руками и ста восемьюдесятью пальцами, медленно, с тяжким усилием волочили тяжелую тушу по морю, а она, казалось, вовсе не двигалась, так была огромна и тяжела. На великом канале Хэнь-Хо, или как там его называют, четверо или пятеро китайцев тянут бечевой тяжело груженную джонку со скоростью мили в час, а мы свою гигантскую баржу тащили втрое медленнее, словно она была доверху загружена свинцовыми чушками.
Стемнело, но фонари на грот-мачте «Пекода» указывали нам путь. Подойдя ближе, мы увидели Ахава с фонарем в руке. Равнодушно поглядев на китовую тушу, он отдал несколько обычных распоряжений, затем передал фонарь одному из матросов и спустился в свою каюту, откуда больше не появлялся до утра.
Хотя во время охоты капитан Ахав выказал свойственную ему энергию, но теперь, увидев добычу, он почувствовал ка-кое-то смутное недовольство, будто эта безжизненная туша напомнила ему о том, что Моби Дик еще жив и разгуливает на свободе и что даже тысячи убитых китов ни на йоту не приблизят ту минуту, когда свершится его великая, безумная цель.
Скоро по звукам, раздавшимся на палубе «Пекода», можно было подумать, что команда готовится бросить якорь прямо посреди океана: тяжелые цепи с лязгом и грохотом тащили по палубе и спускали за борт. Но бряцающие эти узы готовились не для корабля, а для гигантской туши. Пришвартованная головой к корме, а хвостом к носу корабля, она покачивалась рядом с «Пекодом», и в ночной мгле и судно и мертвый кит походила на двух громадных волов под общим ярмом, один из которых лег, а другой еще стоит.
В то время как мрачный Ахав сохранял (по крайней мере, пока был на палубе) абсолютное спокойствие, воодушевленный победой Стабб проявлял признаки несвойственного ему возбуждения, впрочем вполне веселого и добро-душного. Он так непривычно суетился, что уравновешенный Старбек, его непосредственный начальник, молча уступил ему на время свои права, предоставив в одиночку заправлять всеми делами. Вскоре обнаружилось еще одно дополнительное обстоятельство, приведшее Стабба в столь редкостное состояние: он был большим любителем поесть, и оказалось, что для него нет вкуснее блюда, чем бифштекс из китового мяса.
— Я не лягу спать, пока не съем бифштекса, — сказал он. — Эй, Дэггу, лезь за борт и вырежь мне славный кусок из филейной части!
Здесь уместно заметить, что среди жителей Нантакета можно встретить немало почитателей упомянутой Стаббом части китовой туши — то есть сужающейся ее оконечности, переходящей в хвост.
К полуночи бифштекс был вырезан и зажарен, и при свете двух спермацетовых фонарей Стабб решительно приступил к своему ужину, стоя у шпиля, точно у буфетной стойки. Но нельзя сказать, что он ужинал в одиночестве. Тысячи акул, кружась вокруг мертвого исполина, пировали в этот час вместе со Стаббом, жадно вгрызаясь в жирную тушу. Спящие в кубрике матросы вздрагивали от каждого удара акульего хвоста, нанесенного по корпусу всего в нескольких дюймах от сердца спящего.
Хотя среди ужасов морского сражения акулы всегда тут как тут, и точно голодные псы вокруг стола, на котором режут сырое мясо, со страстной жадностью взирают на палубы, готовые разорвать любого человека, упавшего или брошенного за борт, все же нет случая, когда акулы собрались бы в столь бесчисленном количестве и в столь славном рас-положении духа, как вокруг мертвого кашалота, пришвартованного к китобойцу посреди ночного океана.
Но Стабб пока что не обращал внимания на чавканье пирующих вместе с ним акул, как они не обращали внимания на причмокивание его лоснившихся от жира губ.
— Эй, кок! Кок! Где ты там, Баранья Плешь? — вдруг за-кричал он, пошире расставляя ноги как бы для того, чтобы создать своему ужину более прочную основу, и одновременно вонзая вилку в бифштекс, словно острогу в кита. — Кок! Эй, кок! Плыви сюда.
Старый негр, не слишком ликуя по поводу того, что его подняли с теплой постели в столь неурочное время суток, тяжело ковыляя, тащился с камбуза. У него было что-то неладно с коленными чашечками, которые ему не удавалось содержать в таком же блестящем состоянии, как всю остальную посуду на корабле. Баранья Плешь, как все его называли, шаркал и волочил ноги, опираясь на кочергу, и, дохромав до шпиля, остановился по другую сторону Стаббовой стойки, опершись о свою печную трость, согнув старческую поясницу и выставив вперед то ухо, которым он слышал лучше.
— Кок! — сказал Стабб, поддев на вилку и проглотив кусок красноватого мяса, — тебе не кажется, Баранья Плешь, что этот бифштекс пережарен, а? И ты слишком долго бил его, он стал чересчур мягким. Разве я не говорил тебе, что китовый бифштекс должен быть жестким и сыроватым? Вон там за бортом акулы, разве они едят мягкое и пережаренное мясо? Ну, и скандалят же они там! Пойди-ка, поговори с ни- ни, Баранья Плешь, скажи, что никто не помешает им пировать, если только они будут вести себя потише, а то, черт меня побери, даже собственного голоса не услышать. Поди, Баранья Плешь, передай им мои слова. Возьми фонарь и отправляйся. Прочти-ка им проповедь.
Мрачно взяв фонарь, старый негр заковылял к борту. Там он опустил фонарь к воде, как бы для того, чтобы хорошенько разглядеть свою паству, и, перегнувшись через борт, зашамкал, обращаясь к акулам, меж тем как Стабб незаметно подкрался к нему сзади.
— Шлюшайте, братцы, миштер Штабб прикажал, чтоб вы прекратили этот шертов шум. Шлышите? Вы што, с ума шошли? Перештаньте чавкать, шертовы дети! Можете набить швое брюхо хоть по шамые иллюминаторы, но только, шерт ваш вожми, прекратите эту швалку.
— Ну, какой ты проповедник? — Стабб хлопнул кока по плечу. — Какого дьявола ты все чертыхаешься и чертыхаешься, черт тебя побери? Разве так произносят проповеди!
— Ну так проповедуйте шами, шэр, — ответил кок и хотел отойти от борта.
— Нет, нет, Баранья Плешь, давай дальше.
— Итак, вожлюбленные братья…
— Вот, вот, — одобрил Стабб, — проповедовать надо ласково, убедительно, — может, тогда подействует.
Кок продолжал:
— Хоть вы ошень прошорливы, но я шкажу вам, братья мои, што это обшорство, эта шадношть… А ну, коншайте хлопать хвоштами! Кому говорю? Да разве што-нибудь ушлышишь в таком шертовом шуме?