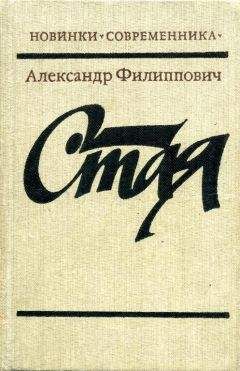— Гэр-ришка! — обязательно выговаривал этот, уж такой на лакомство щедрый. — Ку-ша́й! Гут, Гэр-ришка, ку-ша́й…
Да-а, все-то тогда его ласкали!
А в особенности — это уж он после только догадался — так те, которым самим не больно-то сладко приходилось в своей человечьей жизни. Которым более или менее сладко было, так те и вовсе не обращали никогда на него никакого внимания… Вот уж даже детей возьми, которые все вроде одинаковые. А и они по-разному к нему, к Гришке, и к матери относились-заботились! Те поселковые-то детишки, что по усадьбам своим жили, одно — глазели только, а вот другие… Они в большом рубленом дому вместе, что одной семьей, жили. Мать им его, Гришкину, серую в яблоках, потом в работы насовсем отдали; вот они, все тоже одинаково в казенное одетые, — они уж здорово ласкали и заботились, когда он с матерью им кухню привозил и потом, когда мать отдельно у них жить-работать стала, а он, Гришка, уже в случайных встречах видел их, детишек и мать… да видел же, как ей с ними спокойно!.. А, однако, когда особо-то плохо вот к нему, допустим, относились? И тогда? Ну, и после… Не-ет, всем он им, людям-то, и счастливым, и несчастливым оказывался одинаково нужен. Так что не на чего обижаться. Хоть и всякие они, люди-то, встречались-попадались, а нет ведь, не на чего досадовать. Особо, конечно…
Вот Василия хотя бы взять! Ну, которому нынче аккурат свезли с поля в яму картошки. Уж, верно, и вовсе его, Гришку-то, не помнит… Да ведь и давненько уже то было, в первое лето, когда впрягли его в ходкий возочек. Да и единственное оно оказалось, лето-то, когда Василий вволю на нем накатался! Считай, с того же самого лета и началась вся она, жизнь. Ну да, с того именно момента она так и встает перед думой-памятью. Хм, целехонькая. Однако и это… а и это пустое все!
А ведь он, Гришка-то, сразу Василия нынче признал!
Ездок немало сделали они с Фалеем за день. С ближних делянок возили машинами. Управленческими и случайными, военными преимущественно. А вот со всех тех, дальних-то, делянок всегда и испокон веку только ведь на нем, на Гришке, картошки выволакивали. Машины не хотят туда проходить.
Гришка вздохнул и мордой клюнул.
Эх-ха-ха-ха-а, па-аршивая, однако, туда след-дороженька-а, на те, на дальние-то, деляночки! О-ох па-аршивая…
Даже середь самих-то делянок и вовсе ее, можно сказать, нету. Более все межами, по которым камни, кустарник, репьи. Трава же, нелегкая возьми, одними кочами. И все — тягунок, да как раз когда груженый бредешь. Тут бы в самую пору закрыл глаза и знай наяривай, мотай слюни изо всех-то из последних силов! Однако надо бы еще и поглядывать, да в оба: того и жди, что заспотыкаешься. А в двух там местах так и вовсе тащить по одной пашне голимой, в которой никакой твердости-гладкости. Пыль кругом, дымища от костров. Ребятишки с губами из-за печенок черным-пречерными бегут за тобою для собственной забавы: как же, лошадь живая воз прет! Кричат хоть и ласково, да ведь и не по делу вовсе… Земля же, как на грех, мягкая-премягкая. Веснами аккурат на те делянки, по которым осенями-то этак, прямками бредешь, назьму с Фалеем возишь. Так что не земля — пух там один. Колеса утопливает. Но уж следом зато и проселочек. Попроще здесь, с уклонишком. Хотя ухо тоже востро держать следует, потому как только поворачиваться поспевай. Узко, а с обеих-то сторон еще и огорожи понаделаны. Не то чтобы капитальные заборы, а вот троса ржавые протянуты, прутья железные всяко-разные. Зазеваешься, недоглядишь — цепнешься и изранишься. А чего — бывало ведь уж. Троса — вот те бо-ольно хитрые! Проволоки в них отдельные полопались и торчат — не видать, а колко… Однако никакой особой, в общем-то, трудности, если разобраться, так до самого поселкового пруда не предвидится. Ну и по бережку пруда ровно. Ни вверх, ни вниз. Везде гладко, твердо. Тем более когда, как вот и нынче в осень, дождя мало. Глина. Она ничего. Хуже, конечно, камня, но ничего. Терпимо. Вот и по всей по той-то ровности только отдыхиваться и поспевай. Как раз и Фалей-то в том месте по-разумному гоном не гонит, потому что впереди, на въезде в улицы, предстоит самый главный тягун. Держись тут! Он, может, не так уж и долог, тягунок-то, да бо-ольно крут! И прешь по нему всегда ничего не видя. Глаза от напряжения вылазят, один красный, кровавый свет. И сам уже хочешь глянуть — долго ли еще, до какой же до такой предельной поры-времени может продлиться этакое? — а все равно ничего, кроме кровавого этого свету, впереди не видать. Вот когда каждою-то мясинкою поработаешь! Аж губы судорогой кривит и сводит, да и вся морда немеет… Но, глядишь, и Фалей уж позади орет: «Права? Лева?» Ну, знать, скоро и конец предвидится всех твоих мучениев-издыханий, раз хозяин спрашивает, куды воротить. Глядь, а и верно, ты уже на самой на макушке. Взад не тянет. И тут оглядишься. Вправо покажут — ну и ладно, вправо покатишь. А влево — так влево… Хоть куда теперь. Отсюда хоть докудова — недалеко. И асфальтом к тому же больше. Пусть и разбитым местами, с буграми от засохшей, принесенной с обочин глины, да ведь все равно по твердому. Разве что еще к погребам где по траве-дерну свернуть придется, но тут и наддать-то хорошенько не успеешь, как хозяин какой заорет: «Хорош, Фалей!» И Фалей подхватывает: «Хороша, Гришка!» Стой, следовательно…
Потом Фалея в избу сводят на стакашек-другой бражки, угощение заслуженное, и — обратно. Но обратно-то приключений уже никаких. До пруда разве ребяток насажают, да редко когда вскочит в телегу хороший какой Фалея знакомый. Обычно же он никому зря кататься не дозволяет, Фалей-то…
Как раз когда в обратный путь на делянки шли, у своротки с проселка на межи и сидел он нынче на камушке, Василий-то.
По всему судить, так ездка была последняя — смеркалось. За болотами, правда, красным кругом еще светилось низко солнышко. Но в болотах уже рождался по низинкам туман. В воздухе чисто, чуть-чуть лишь изредка потягивало дымком от затухавших костерков.
Василий-то на делянках нынче, может, и раньше был, когда очереди все занимали, только он, Гришка, его впервые за весь день именно на камушке у своротки увидел. А очереди-то когда занимали, и правда, что одни бабы больше кружили. Шумели, кричали. Которые и плакали. Однако все это Фалея касалось: ему ведь решать, кому первому вывозить, кому и после, как, словом, успеется. Тогда, должно, и Василий подбегал, да только он, Гришка-то, в сутолоке его и не приметил, верно.
На скрип колес Василий с камушка вскинулся. Взмахнул рукой: сюда, мол. Гришка скосился: чего, Фалей? А Фалей важно ничего по сторонам не замечает и лишь вперед видит, ровно шофер какой. А чего? Когда картошки вывозят да веснами, когда пашут, Фалей на делянках изо всех самый, можно сказать, наиглавный и желательный человек. Фалей и он, конечно, Гришка.