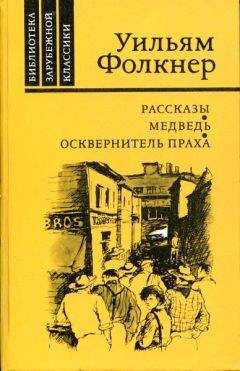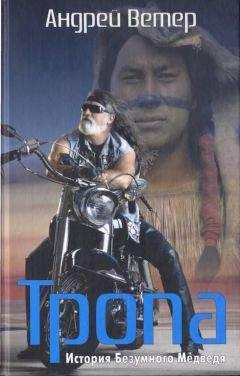Когда он понял, что заблудился, то поступил, как наставлял и школил его Сэм: стал делать круг, чтобы выйти на свой начальный след. Последние два-три часа он шел не очень скоро, особенно с тех пор, как остался без компаса. Так что теперь пошел и вовсе не торопясь, ведь до дерева, под которым рос тот куст, было не так уж далеко; и правда, дерево он увидел даже раньше, чем ожидал, и повернул к нему. Но там не оказалось ни куста, ни часов, ни компаса, и тогда, продолжая действовать, как наставлял Сэм, он сделал новый круг, но в другую сторону и куда больше радиусом, так что общий рисунок кругов должен был пересечься со следом, и, однако же, нигде ему не встретилось ни намека на след, и теперь он шел быстрей, хотя по-прежнему без паники, и сердце билось хоть чаще, но достаточно ровно и сильно, и снова вышел к дереву, совсем уж не к тому: тут рядом лежит рухнувший ствол, которого там не было и в помине, а за стволом сочащееся влагой болотце, не то суша, не то вода, — и, выполняя третье и последнее Сэмово наставленье, он присел на этот ствол и увидел в сырой земле кривую вмятину, двупалый отпечаток, который быстро заполняла вода, вот уже переливаясь через край, съедая очертанья. Он поднял голову, увидал еще один, шагнул, увидал другой подальше и не побежал суетливо, а пошел, поспевая за будто с неба падающими отпечатками, как раз вовремя — пока не потерял их навсегда и сам навеки не потерялся, следуя неутомимо, ревностно, без трепета и колебанья, слегка задыхаясь, с колотящим грудь крепко и часто молоточком сердца — и внезапно вышел на прогалину. Глушь беззвучно ринулась навстречу и сгустилась, оформилась в деревья, куст, часы и компас, сверкнувшие под солнечным лучом. И он увидел медведя. Нет, медведь не явился, не появился ниоткуда — предстал недвижный в стоячих зайчиках зеленого знойного полдня, не громадиной из снов, а каким мерещился наяву или чуть крупнее — размеры скрадены пятнисто-сумеречным фоном — и смотрит. Шевельнулся. Двинулся не спеша через прогалину, на миг облило его горячим солнцем, опять остановился, глядит через плечо. Ушел. То есть не ушел — утонул, без единого движения растворился в чаще, как однажды на глазах мальчика, и плавниками не пошевелив, скрылась, погрузилась в темную глубь омута рыба — огромный старый окунь.
И следовало ожидать, что Лев возбудит в нем ненависть и страх. К тому времени ему пошел четырнадцатый. Он уже добыл своего первого оленя, и Сэм помазал ему лицо горячей оленьей кровью, а через год в ноябре он убил медведя. Еще до этого торжественного посвящения он освоил лес лучше многих взрослых охотников с тем же, что у него, стажем. Теперь же не всякий и ветеран-лесовик мог бы с ним потягаться. Он назубок знал местность на двадцать пять миль вокруг лагеря — каждый затон и пригорок, каждое приметное дерево и каждую тропу, и смог бы, не плутая, доставить желающего на любое место и обратно в лагерь. Ему были ведомы звериные лазы, неизвестные даже Сэму Фазерсу; в третью осень он без чьей-либо помощи открыл оленье лежбище и, ни словом не обмолвившись двоюродному брату, взял винтовку у Юэлла и подкараулил на рассвете возвращавшегося на лежку рогача, как, по рассказам Сэма, делали индейцы в старину.
След старого медведя был ему теперь знаком не хуже собственного, и дело не только в увечной лапе. Он моментально опознал бы отпечатки и трех прочих лап, хотя водились в окрестности и другие медведи, оставлявшие следы почти такой же величины, так что требовалось бы наложить след на след, чтобы отличить. Но не в размере лишь было дело. Если Сэм Фазерс был с первых лет его наставником, а приготовительными классами — зайцы и белки опушек, то чаща, обиталище старого медведя, стала его университетом, а медведь этот, издавна одинокий и бездетный, точно сам себя бесполо породивший, — его alma mater.
Теперь ему не составляло труда отыскать двупалый след в десяти, в пяти милях от лагеря, а то и ближе. За три прошедших года он дважды еще слышал со своего номера, как собаки брали этот след, а раз даже наткнулись на самого зверя, и тонко, жалко, почти по-человечески истерично звучали их голоса. Затаясь однажды на лазу с винтовкой Уолтера Юэлла, он видел, как Старый Бен брал длинную полосу поваленного бурей леса. Медведь пронесся локомотивом через, вернее, сквозь кавардак сучьев и стволов с неожиданной для мальчика почти оленьей быстротой, а ведь олень прыжками бы летел над буреломом; мальчик понял тогда — чтобы не дать ему ходу, нужна собака не только исключительной отваги, но и редкостной величины и быстроты. У него был дома помесной породы песик, каких негры зовут сморчками, — крысолов, сам чуть побольше крысы и храбрый до безумия, до дурости. Он взял его на одну из июньских охот и в урочное время, как будто отправляясь на деловое, заранее условленное свидание, понес своего крысолова, закрыв ему голову мешком, а Сэм повел пару гончих на сворке, и они засели на следу, за ветром, так что медведь угодил в форменную засаду. Собаки оказались так близко к зверю, что даже остановили его — сбитого, должно быть, с панталыку бешеным визгом крысолова, как сообразил мальчик после. Припертый к стволу большого кипариса, медведь встал на дыбы, все выше, все непомерней вырастая над гончими, которые словно от крысолова обе набрались отчаянной и отчаявшейся смелости. И тут до мальчика дошло, что сморчок не шутя намерен схватиться со зверем. Он бросил ружье наземь и кинулся вперед. Дотянулся в падении, выхватил прямо из-под медведя пронзительно орущую, свирепо забарахтавшуюся собачонку. В ноздри ударил крепкий, горячий медвежий смрад. Прямо над собой он увидал грозовою тучей нависшего зверя. «Это было уже где-то раньше», — мелькнуло, и вспомнилось где: во сне.
Медведь ушел. Он и не видел как. Стоя на коленях, обеими руками держа осатанелую собачку, он слушал, как удаляется плачущий лай гончих. Подошел Сэм, тихо положил рядом ружье, выпрямился, глядя на мальчика.
— Вот ты и с ружьем его два раза видел, — произнес Сэм. — Сегодня ты его наверняка бы уложил.
Мальчик поднялся на ноги. Все еще держа крысолова. Песик по-прежнему яростно визжал, изворачивался, рвался из рук за глохнущим лаем, точно жгут пружинок-проволочек под током.
— А ты сам? — сказал мальчик чуть прерывающимся голосом. — Ружье осталось тебе. Почему же ты не стрелял?
Сэм точно не слышал. Протянул руку, коснулся песика, который все еще тявкал и тянулся, хотя собак уже не слышно было.
— Он ушел уже, — сказал Сэм. — Успокойся, отдохни теперь до следующего раза.
И песик стал затихать под гладящей рукой.
— Ты нам почти подходишь, — приговаривал Сэм. — Только маловат вот. Нет у нас пока собаки. Поратость ей понадобится, а сверх того, рост, а сверх того и другого — храбрость.