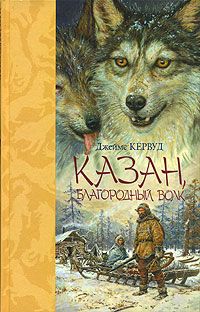— Казан! Казан!..
Он рванулся опять, но опрокинулся на спину. Он еще несколько раз пытался прыгнуть на всю длину привязи, и каждый раз ошейник, как нож, врезался ему в горло. На мгновение Казан остановился и перевел дыхание. Потом, с коротким рычанием, со всей своей силой рванул цепь. Послышался треск, и ремень, застегнутый на его шее, лопнул.
В несколько прыжков Казан очутился у палатки и скользнул под полог. Грозно зарычав, он схватил Мак-Криди прямо за горло. Уже первое сжатие его могучих челюстей несло смерть, но Казан не знал этого. Он знал только, что здесь его хозяйка и он сражается за нее. Раздался захлебывающийся крик, тут же оборвавшийся. Мак-Криди повалился на спину, а Казан все глубже вонзал клыки в горло врага.
Изабелла звала Казана, тянула за лохматую шею. Но он долго не разжимал челюстей, а когда наконец отпустил свою жертву. Изабелла, взглянув на лежащего перед ней человека, в ужасе закрыла глаза, потом упала на постель и лежала совсем-совсем тихо. Лицо и руки у нее были холодные, и Казан ласково подталкивал их носом, но хозяйка не открывала глаз, Казан лег подле нее, с угрозой повернувшись в сторону мертвого.
Прошло немало времени, прежде чем глаза хозяйки открылись; ее рука коснулась Казана.
И тут снаружи послышались шаги. Наверное, это был хозяин. В привычном страхе перед побоями Казан юркнул к выходу. Да, при свете костра он увидел хозяина, и в руке у него дубинка! Торп шел медленно, едва не падая при каждом шаге, и все лицо его было залито кровью. Но он держит дубинку! Значит, он опять будет бить его, Казана, жестоко бить, как в тот раз, когда он впервые осмелился броситься на Мак-Криди. Казан незаметно выскользнул из палатки и прокрался в тень. Из темноты густого ельника он оглянулся назад — из горла его вырвался и тут же замер звук, полный любви и горести. Теперь, после того, что он сделал, они всегда будут бить его. Даже хозяйка. Они будут искать его, а когда поймают, станут бить.
Казан еще раз взглянул на огонь костра и повернулся в сторону леса. Там, в этой мрачной чаще, нет ни дубинок, ни полосующего бича. Там люди не смогут найти его.
Еще с минуту Казан колебался. А затем бесшумно, подобно существам дикого мира, к которому он теперь принадлежал, скользнул в заросли и исчез в ночной темноте.
Казан погрузился в таинственную черноту леса. Ветер глухо стонал в верхушках елей. Несколько часов Казан пролежал недалеко от привала, неотрывно глядя на палатку, где так недавно он одержал свою ужасную победу.
Казан знал, что такое смерть. Он узнавал ее издали, чуял ее в воздухе и понимал, что сейчас смерть повсюду вокруг него и что он сам принес смерть. Казан лежал в глубоком снегу, дрожал и горестно скулил — он все-таки был собакой. Но примесь волчьей крови уже давала о себе знать в угрожающе оскаленных клыках и в злом блеске глаз.
Трижды хозяин выходил из палатки и громко звал:
— Казан! Казан! Казан!..
И каждый раз вместе с ним выходила женщина. В ее голубых глазах все еще был страх, как тогда, в палатке, когда он прыгнул и убил Мак-Криди. Она тоже звала:
— Казан! Казан!..
При звуке этого голоса он радостно встрепенулся и чуть было не пополз обратно к людям, к хозяйке и хозяину, готовый принять наказание. Но страх перед дубинкой оказался все же сильнее. Казан остался на месте и так пролежал здесь еще несколько часов подряд. Наконец в лагере все снова стихло, в палатке уже перестали мелькать тени и пламя костра почти совсем затухло.
Казан осторожно выбрался из темноты и прокрался к нагруженным саням, стоявшим возле догорающего костра. Позади саней в тени деревьев лежало прикрытое одеялом тело убитого им человека — хозяин выволок его из палатки и оставил на снегу.
Казан лег, положив голову на передние лапы и повернувшись носом к теплым еще углям. Он не отрывал глаз от палатки, он был начеку. Как только поднимутся хозяева, он немедленно скроется в лесу. Но от серого пепла на месте костра шло тепло, и веки Казана стали смыкаться. Несколько раз он заставлял себя проснуться, но вот в последний раз веки его, едва приоткрывшись, вновь тяжело опустились.
Во сне Казан тихонько скулил, мускулы его сильных лап подрагивали, дрожь пробегала и по спине. Спящий в палатке Торп, взгляни он сейчас на Казана, сразу понял бы, что собака видит сон.
Казану снилось, что он опять рвется с цепи. Челюсти его щелкнули, как стальные кастаньеты, и этот звук разбудил его. Он вскочил, шерсть его ощетинилась, оскаленные клыки сверкнули, как стальные ножи. Казан проснулся как раз вовремя. В палатке уже слышалось движение. Поднялся хозяин. Если не удастся сейчас убежать…
Казан бросился в ельник и там спрятался, прижавшись к земле, одна лишь его голова выглядывала из-за дерева. Он был уверен, что хозяин не пощадит его. Ведь Торп избил его даже за то, что он просто прыгнул на Мак-Криди, и только вмешательство женщины остановило побои. А теперь он разорвал Мак-Криди горло, отнял у него жизнь. Теперь даже женщина не в силах будет отвести наказание.
Зачем только хозяин вернулся, почему не остался там, где бросил его Мак-Криди! Казан мог бы не расставаться с хозяйкой. Она бы его простила, ведь она любит его. А он всюду следовал бы за ней, сражался и умер бы за нее, когда настал бы его час. Но Торп вернулся из леса, и Казан убежал, потому что Торп значил для него теперь то же, что и все мужчины: это были существа, держащие в руках дубинку, бич и еще предмет, изрыгающий огонь и смерть. Вот и сейчас…
Начинало светать. Торп вышел из палатки с ружьем в руках. Минуту спустя вышла и женщина. Она схватила мужа за руку, и оба они глянули туда, где лежало покрытое одеялом тело. Женщина что-то сказала Торпу, и тот выпрямился, закинул голову назад и прокричал:
— Э-ге-ге! Казан! Казан! Казан!..
Казан задрожал. Человек пытается выманить его, а сам держит ту самую палку, которая убивает!
— Казан! Казан! — опять позвал Торп.
Казан осторожно попятился назад. Он отлично знал, что для холодной тяжелой палки, посылающей смерть, расстояние ничего не значит. Он обернулся, тихо заскулил. Его покрасневшие глаза светились безысходной тоской, когда он в последний раз посмотрел на Изабеллу. Он уже знал, что расстается с ней навсегда, и почувствовал в сердце боль, какой никогда прежде не испытывал, — боль мучительнее, чем от дубинки или бича, от голода или мороза. Ему захотелось запрокинуть голову и выть, чтобы в серую пустоту неба излить свою тоску и одиночество.
А там, возле палатки. Изабелла проговорила дрогнувшим голосом:
— Он ушел.
И даже сильный голос мужчины слегка прерывался, когда он заговорил.