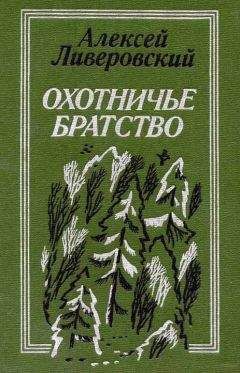Иван Сергеевич встал, оглянулся вокруг, сказал:
— Лес высокий, а была пашня. Видите, каменный вал? Это мужик — царство ему небесное — пахал, боронил и камни на межу вытаскивал — на руках, тяжелые. Старопахотная земля! Основа. Вы лесник, сколько этому лесу?
— Не совсем лесник, приблизительно скажу, лет тридцать — сорок.
— Верно, с тех пор нива и запущена. Беда это! Русь-то отсюда пошла, не от Москвы, от Новгорода. Не помните, какая пятина?
— Знаю, Бежецкая.
Иван Сергеевич подложил под голову рюкзак с одним нашим единственным молодым чернышом — не повезло в то утро с охотой, — лег на траву и, показалось мне, задремал.
Мне не спалось. Лежал, думал о том, что пахать-то некому. Мужчин с войны мало вернулось, молодежь не удержать, уходит в город. Одни вдовы, и те на возрасте. Так ли страшно? Хлеб на юге лучше родится. Здесь никогда своего не хватало, каждую зиму мужики в отход: в лес, на сплав, мастеровыми по городам.
Словно в ответ на мои мысли Иван Сергеевич неожиданно поднял голову, снова закурил трубку, сказал:
— Председатель, Василий Фаддеевич, говорит, что, бывало, с их полустанка каждый день семь-восемь вагонов в город отправляли: рожь, овес, лен, мед, корье, клюква. Теперь не слышно. И опять-таки, сколько здесь скота было! В районе мне сказали, что с Украины приедут сюда за сеном, у них опять засуха. В наших местах всегда трава — хуже ли, лучше ли, а есть.
В первый раз я видел Ивана Сергеевича таким неспокойным, возбужденным. На ноги поднялся, отчаянно боролся с гаснущей поминутно трубкой, громко говорил:
— Сколько в вашей деревне детей? Нет маленьких? А в соседней, в Ерзовке? Пять и две учительницы, так…
— Слышно, закроют школу, за последнее время в нашем районе третью.
— Что делать, закроют. Глохнет край, гибнет накорень. А ведь это Россия. И не только в Новгородской так. Кто в войну немца остановил и выгнал?
Иван Сергеевич притих, вытащил ножик, срезал тонкий сучок, почистил трубку и сказал спокойно:
— Пошли к дому, все равно уже толку не будет: жарко, тетерева в кусты уйдут.
Из Никандрова, с почты, принес мальчик телеграмму. О чем она была, не знаю. 13 августа рано утром спешно на лошади увез Василий Фаддеевич домовицких гостей в район. Не близкий путь — тридцать пять километров.
Мы стали встречаться с Иваном Сергеевичем довольно часто, почти всегда в его доме. Не буду рассказывать про обстановку в его квартире — много раз она отлично описана разными авторами, и не было в ней ничего особо удивительного, хотя она и соответствовала хозяину и рассказывала про него. Удивителен был сам Иван Сергеевич.
Прежде всего это был человек теплый. Не горячий, как костер, не лучиной тлеющий, а такой, как вечером за день нагретый камень-валун, — прислониться к нему, припасть хочется. И было это удивительным: не всегда грело Ивана Сергеевича солнце, были и пасмурные дни, и морозы, и ветры холодные дули — а вот, поди же, сумел он собрать, аккумулировать тепло и щедро делился им со всеми до конца жизни.
Он любил и умел рассказывать. При этом лицо его оставалось спокойным. Помогала, волновалась его трубка. При паузах и в значительных местах она заново раскуривалась; если хозяин огорчался, она закупоривалась и сипела, — тут двойное огорчение получалось, и слушателю хотелось как-то помочь, а не надо было, потому что, если дело было совсем плохо, трубка поворачивалась, головка ее оказывалась в руке, а изжеванный чубук чертил горизонтальную отрицательную линию. В большой радости — прочищенная, набитая свежим табаком и раскуренная трубочка поднималась, взлетала выше плеча.
Он любил шутить и слушать смешное, но лицо его не смеялось, только глаза загорались, лучились подлинным и добрым смехом.
Рассказов у него было много. Речь Ивана Сергеевича была чиста и нетороплива, как лесной ручей. Никаких назойливых приговорочек или модных расхожих слов. И никаких помогающих иному запинок вроде «э-э-э» или «так сказать». Плавно текла его речь, ничем не замутненная и такая русская!
Стал я Ивана Сергеевича подбивать съездить на охоту. Отказывался сначала, говорил: «Хочу, замечательно бы это, да куда и как, и ноги не те. Давненько в лесу не был — пожалуй, года четыре». Я подумал: четыре — это, значит, после смерти дочки Аленушки, утонувшей в озере Пюхи-Ярве. Обещал я, что ходить почти не придется, тяга в четырехстах метрах от асфальта, привезу туда на своей машине. Согласился.
12 мая 1955 года я привез Ивану Сергеевичу ватник, сапоги, носки, портянки, патроны. Застал его за завтраком. Оживился старик, говорит:
— Четыре года ружье на гвозде, вот только это на гвоздь повесить еще не могу, — показал на графинчик с камушками.
Долго одевался, боялся что-нибудь забыть. Уговаривал меня выпить:
— Это ерунда, что шоферу нельзя. Я с пьяными летчиками на По-два летал. На земле на ногах не держатся, а в воздухе что выделывали…
Поехали мы в деревню Строение, Тосненского района, километров шестьдесят от Ленинграда. Там охотничье хозяйство, я им ведал на общественных началах.
Иван Сергеевич сидел рядом с моим водительским местом и, как только мы проехали мясокомбинат, начал рассказывать. На мой вопрос о Куприне ответил:
— Куприна я знал хорошо, он меня в литературу вводил. Был у него, когда он вернулся, в «Метрополе».
Ивана Сергеевича встретил «сухонький старичок с седой бородкой клинышком и обострившимся носом». Куприн впал в детство, почти ничего не помнил. Был в восторге от телеграммы балаклавских стариков по поводу его возвращения на родину. Ивана Сергеевича не узнал. Спросил: «Вы из Ленинграда? А как в Гатчине — трактир Веревкина существует? Нет? Жаль. Такое хорошее место было, и вывеска интересная: „Распивочно и раскурочно“. А этот… как его… мерзавец… как его? Ну, я повесть-то написал, как ее?» — «Яма», — подсказала жена. «Ну, вот вторую-то часть написал, — жив?»
Иван Сергеевич пояснил мне, что Куприн долго торговался с издательством о второй части «Ямы», предлагали ему кабальные условия. И в это время какой-то «Граф Амори», псевдоним, конечно, напечатал свою вторую часть «Ямы», как продолжение купринской, с тем же сюжетом и действующими лицами. Все это сильно подействовало на Куприна.
Иван Сергеевич, рассказывая, видимо переживал ту последнюю, как ему было ясно, прощальную встречу. Помолчал, добавил:
— Не много как человека от него осталось, даже физически, а какой был кряж! А тут? Больной, какой-то примиренный, кроткий и… беспамятный.
Надолго замолчал Иван Сергеевич, отвернулся, смотрел в окошко на убегающие назад несеяные пригородные поля.
Я остановил машину после подъема на Пулковскую возвышенность у поворота на Поповку — размять ноги и прогулять взятого с собой ирландского сеттера Яну. Покряхтывая, вышел на шоссе Иван Сергеевич. Дивный был день, весенний, ласковый, почти безоблачный. В голубизне вихлялась и повизгивала пара чибисов, подальше — еще пара, и еще. Кольцом вокруг бомбовой воронки распушились вербные зайчики, пух от них желтый, цыплячий, и сами нежные, свежерожденные. Поднимаясь из сухой некоей, затрепетал крыльями, залился песней жаворонок. Красивый день, а воздух…