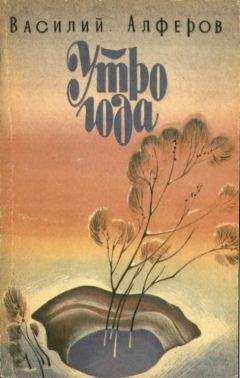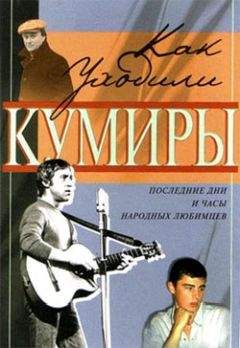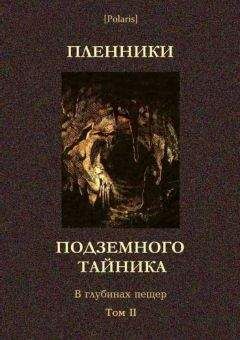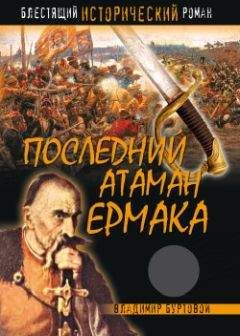«Не подводите нас, не приступайте к работе». И кто-то из солдат тут же крикнул:
«Братцы, не будем работать!»
К этому выкрику присоединились еще несколько голосов:
«Не будем!.. Не будем!..»
Один за другим солдаты покинули мастерские и вышли на просторный двор, где их как родных братьев встретили забастовщики.
А вскорости батальон этот, в котором служил Илюшка, был расформирован как неблагонадежный. И дали тогда Илюшке такую грамотку, по которой он нигде не имел права поступить на работу. И мастерству научился, и сила была, а вот руки приложить к делу не мог. Гнали его, куда бы ни пришел, как неблагонадежного.
Ходил Илюшка по Самаре сам не свой, глядел на богатеев, выходивших из магазинов с покупками, видел гладких рысаков на Дворянской улице и качал головой, приговаривая: «Кто выдумал такую несправедливую жизнь?»
Ему становилось душно. Он сворачивал на самую безлюдную улицу и торопился домой. А когда подходил к рабочему поселку, с облегчением вздыхал: «Здесь вроде лучше!».
По воскресеньям Илюшка ходил в свою поселковую деревянную церковь. Здесь он слышал одну и ту же песню: «Радуйся и веселися, яко жизнь твоя на небеси…»
Но не было ни радости, ни веселья. Куда пойти, кому высказать свою нужду, где найти справедливый закон жизни? Илюшка не знал, куда идти и где отыскать такой закон. Он садился на сломанный забор возле своего двора, закрывал лицо руками и говорил вслух:
«Взойдешь ли ты, солнышко, с нашей стороны?.. Обогреешь ли теплом своим бедный люд?»
Так и пришлось. Илюшке покинуть Самару. Уехал он куда-то далеко, кажись, в тайгу сибирскую. И с тех пор от него ни слуху ни духу…
Дорофеич, Яшкин дедушка, постучал клюкой о землю и тихо спросил:
— А Прасковья, мать-то, с другими ребятишками куда девалась? Она ведь мне сродни приходится…
— Прасковья вскорости померла. А мальчишка с девчонкой на спичечную фабрику определились.
— Кажись, четверо у нее осталось после Андрея-то? — спросил опять Дорофеич.
— Четверо, — ответил дядя Максим. — Меньшой-то, Евсейкой звали, тот в Волге утоп.
— Вот те и жизня!.. Раскололась, ровно горшок глиняный, на мелкие черепки, — шумно вздохнув, сказал Иван Верста. — А болтали — Андрей вольготно живет, пиво с медом пьет.
Роман Сахаров выпустил изо рта облако лилового махорочного дыма и, покрутив головой, сказал:
— Да, пил крепко. Но, видать, только по усам текло, а в рот никогда не попадало…
— Вот они какие дела-то! — продолжал дядя Максим. — Рассказывал я про это же самое как-то давно анновскому учителю Константину Сергеевичу. Душевный был человек. Всегда обласкает, добрым словом утешит. Но только недолго он там прослужил. Признали его смутьяном, нашли у него какие-то недозволенные книжки, и с тех пор исчез человек. Ну вот. Выслушал он меня тогда и говорит: «Погоди, Максим Иваныч. Соберутся тучи грозовые, ударит гром, пройдет проливной дождик и очистит нашу землю от всякой скверны. Станет хозяином новой жизни трудовой народ».
Над Заречьем незаметно опустился черный полог ночи. За Волгой, где, казалось, осокори упирались вершинками в самое небо, играла зарница. Мужики с тяжелыми думами расходились по домам.
В один из праздничных дней под веселую руку дядя Максим рассказал еще о том, что он ездил в Самару лечиться от простуды. Случай этот для того времени был совершенно необычным, поэтому каждый навострил уши и боялся пропустить слово.
— В такой я, братцы мои, переплет угодил, что век не забуду, — начал дядя Максим. — Случилось это со мной давно, по молодости, когда я в Анновке батрачил… Помню, праздник престольный был. Хлебнули мы тогда, признаться, через край. По пьяному-то делу я и не знаю, как угодил в канаву и проспал в ней до утра. А было холодновато… И привяжись ко мне после этого кашель. Да такой, что страх! Думал, пройдет скоро, а он не унимается да и только.
Встретились мы как-то с тамошним учителем Константином Сергеевичем, стоим и беседуем. А я все кхе да кхе… Щекочет в горле — и шабаш! Посмотрел учитель на меня и говорит:
— Кашель у тебя, Максим, нехороший… Давно, — слышь, — кашляешь?
— Два месяца, — говорю, — бьюсь. Измучился весь.
— У тебя, наверно, туберкулез…
— Это еще что за оказия такая? — спрашиваю.
— Ну, попросту сказать, — чахотка.
— Кто ее знает, — говорю, — может, и она.
— Дело, — слышь, — это сурьезное. Обязательно поезжай в Самару. У меня там в лечебнице врач знакомый есть… Напишу я бумажку ему, по этой бумажке прямо и валяй.
Ну, думаю, раз человек мне добра желает, надо ехать. Собрался — и на пароход! Приехал в город чуть свет. Хожу по улицам и бумажку свою каждому в нос тычу: где, мол, мне тут найти вот эту самую лечебницу?.. Долго плутал…
— А как нашел-то — перебил Иван Верста. — Там, говорят, такая круговерть, что враз себя потеряешь и в полицию угодишь…
— Ишь какой любопытный! — засмеялись мужики.
— Вот так и нашел, — продолжал дядя Максим. — Спасибо тетке одной — она меня довела до самой лечебницы… Вхожу и вижу: народишко сидит. Не особо много, а все-таки порядком.
— Сюда, что ли, спрашиваю, попал я?
Посмотрел на мою бумажку какой-то старичок почтенный и ответил:
— Сюда, сюда… Но только, уважаемый, черед здесь установлен. По череду принимают.
А когда подошел мой черед, я встал и пошел туда, где записывают. Отворил дверь, гляжу: за столом сидит чернявенькая такая — не то дохторша, не то еще кто. Я к ней. Приезжий, говорю, из деревни… Два месяца кашель мучает — из сил выбился. Вот вам и бумажка от Константина Сергеича… Нельзя ли поскорее?
— Садись, — слышь, — вот здесь, — указала мне чернявая на табуретку возле стола, а сама куда-то вильнула.
А я рад — хоть до места добрался. Как сел, меня тут же в сон клонить стало. Вот как умаялся!
Ну, входит эта самая чернявая и опять к столу. Вынула из стакана какую-то стеклянную штуковину и ко мне:
— Расстегни рубашку.
Расстегнул я рубашку, а она мне эту самую штуковину под мышку пихает.
— Прижми тихонько и посиди спокойно минут десять…
— Горячая была эта штучка али нет? — снова перебил Иван. — Слыхал я, что в городе электричеством лечат…
— Да погоди ты, Иван, не мешай, — ворчали мужики.
И вот сижу я, братцы мои, не ворочаюсь. Дыхнуть боюсь: как бы вред какой, думаю, не наделать. А тут, как на грех, спина промежду лопаток зачесалась. Скоро, что ли? — спрашиваю.
— Две минуты, — слышь, — осталось.
Батюшки мои родные, какие минуты-то длинные!..