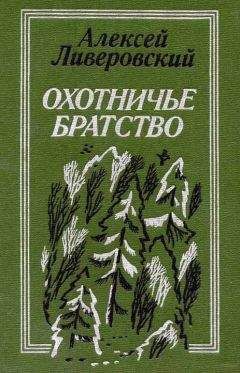Впрочем, домом эту избушку можно было назвать только условно — срубленная бог весть из чего, она едва возвышалась над землей. Навстречу вышла молодая высокая женщина с лицом доброжелательным и милым. Ничего не спрашивая, сказала: «Проходите». Уступила мне дорогу. Я прошел, согнувшись чуть не вполовину, в дверь через темный коридорчик мимо русской печки в комнату. За столом сидели мужчина и двое детей. Мужчина некрупный, чисто бритый, на посеченном солнцем и ветрами лице светились небольшие умные и проницательные глаза. Он откинул рукой густые пепельные волосы и, когда я объяснил свой приход, встал, просиял приветливостью, переспросил: «От Евгения Николаевича? Племянник? Это радость. Раздевайся, садись. Может, в баню? Еще горячая».
Так я попал в этот прекрасный уголок новгородских глухих лесов и познакомился с весьма примечательным и редкостно достойным человеком.
С тех пор стал постоянно ездить в Сенную Кересть на разные охоты. На токах, с гончими по зайцам на обширных старых вырубах, с легавой по вальдшнепам в пойменных ольшаниках — всегда со мной без всякой просьбы, за компанию, ходил Салынский. Я вскоре понял, почему дядюшка сказал: «Матвеич — это Матвеич!» Этот небольшой ловкий человек был как бы лесным духом здешних мест. Он знал все, что делается в лесу, по крайней мере в радиусе тридцати километров от своего дома. Знал наперечет все глухариные и тетеревиные тока, каков был в этом году приплод у зайцев и сколько лосей бродит вокруг. Но не созерцатель или караульщик — он промысловик высочайшего класса, лучший в своем районе, а может быть, и во всей Новгородской области. Его постоянно премировали, вызывали в город на слеты, он регулярно получал путевки на лося за уничтоженных волков.
Помнится один разговор. Как-то в середине зимы мы обсуждали результаты его промысла. Он сказал, что сдал сколько-то, не помню точно, куниц. Меня удивило количество, в полушутку спросил: «Всех переловил?» Нисколько не обидевшись, он ответил: «Что ты! Разве можно! Оставил на племя хорошо, примерно пар шесть, не меньше». Я уже тогда понимал, что такое Матвеич, и нисколько не удивился определенности и точности ответа.
Просматриваю свой охотничий дневник, ищу записи охот с Матвеичем. Ага! Вот:
«30 мая. Ток „Мокрая береза“. Подслух. Сели с В. М. Салынским в 8–00. Ток близко от деревни, пуганый — следы на мху и окурки — на хорошие пойти не хватало времени. Первый прилет 9–07, второй 9–20. Вальдшнепы парой. Тетерева за рекой немного и вяло. У самых ног прошел еж, рыси кричали — похоже на крик раненого зайца, только много сильнее. Ночевали у брошенной поленницы. Чай в котелке. Матвеич похвалил, советовал добавлять смородиновый лист, если нет листвы — тонкие побеги. Я сказал про рысей, как на зайца похоже. Матвеич вспомнил: „Прошлой зимой иду своей лыжней по просеке, рядом в молодом ельнике закричал заяц. Я туда. Сразу не понять что — заяц крутится на одном месте и верещит. Пригляделся, заметил по черному хвостику горностая. Он зайцу вцепивши в горло и обернулся кольцом. Взял палку, стукнул, добыл горностая, заяц уплелся“. Я про ежа. Матвеич говорит: „С ежом у меня удивительное дело. Тропил куницу, ночной след. Гляжу, сильно намято и кровь. Большой кун сумел под снегом найти ежа, выпотрошил, остаток унес в дупло старой липы. Это удивительная липа была, нонечь ее ветром порушило. Там вековой пчелиный улей был. Круг той липы семь куниц взял“.
От костра в 5–00. Песню услышали одновременно. Матвеич сказал: „Скачи“, — сам остался на просеке. Мошник пел сторожко, когда я подскочил близко, стал оглядывать и — замолчал. Перемолчка застала меня в неудобнейшей позе: одна нога задрана на высокую кочку, другая провалилась глубоко. Терплю. Быстро затекли ноги. Мученье! Начало меня покачивать, неодолимо захотелось хоть полшага сделать — сменить позу, а там будь что будет. Неподалеку подала голос глухарка, раз, второй, и кокает, и ростится. Глухарь разом заточил, яростно, песню за песней. С облегчением под вторую же глухую песню я переставил ногу. С добытым глухарем вернулся на просеку, рассказал Матвеичу, как глухарка выручила. Он рассмеялся: „Это я его подгорячил“.
Утро. Первая кукушка, теньковка. Селезеночник, пушица цветет, везде почки-хвостики. До дома еще не дошли — дождь и ветер, иногда со снегом. Матвеич говорит: „Не будет ли сей вечер с погодой такая же канцелярия? Жалко, хотел свести тебя на Кронберга, там ток в расширенном масштабе“».
Конец дневниковой записи.
Не удивительно, что Салынский сумел «подгорячить» мошника. Замечательно он подражал всем лесным голосам. Гениально трубил журавлем, подвывал волков, в шутку высвистывал на открытую полянку тетеревят, подманивал прямо вплотную любую кукушку, заставлял кружиться над головой канюка и — что удивительнее всего — губами, без пищика манил рябчиков. Стоило ли удивляться после того его способу отыскания диких пчел. На мой вопрос ответил совершенно серьезно: «Это, Леня, просто. Вынеси в лес на полянку блюдечко с медом или сахарным сиропом. Сиди неподалеку, гляди — прилетит пчела, возьмет что надо и улетит. Примечай направление — и все. Вспомни, где в той стороне подходящие дупла в деревьях, и прям иди». Матвеич есть Матвеич — я улыбнулся и про себя подумал, что только он знает все дупла в лесу.
Он слышал, он знал и, как никто, видел. Пройти за куницей по рону, посорке — попробуйте заметить на снегу комочки снега или мельчайший древесный мусор! — и так два-три километра; добрать в бесснежье, по черностопу раненого лося он мог с уверенностью. Удивительные глаза! Вот бы про кого не мог сказать Дерсу Узала: «Глаза есть, посмотри нету».
Или вот пример. Приехали с товарищем, набросили гончую. Тепло, сухо, безветренно. Зайца мало, подъем трудный. Идем большим лесом. Матвеич говорит:
— Пойдем сквозь, зайца тут нет, по такой погоде он аннулировался в опушку.
Разошлись, идем, порскаем. Слышу голос Матвеича:
— Лень, Лень, называй!
Кричу:
— Вот! Вот! Вот! — подхожу, спрашиваю: — Соскочил? Видел?
— Не, лежку нашел, сегодняшнюю. Видать, только поднялся. Гляди, — показал под ивовым кустом овал примятой травы.
Удивился я — не зима, следа нет. Рядом залилась гончая.
Этого зайца мы взяли легко, со следующим вышло хуже. Выжловка сошла с голоса, мы долго ее искали, и, когда нашли, она ходила по черно-ольховому болоту, потеряв зайца, но продолжая — правда, довольно вяло — подавать голос. Была она слабоголоса или, если определить то, что она в этот момент делала, не на таком изысканном староохотничьем языке, а попроще, — подвирала, фальшивила. Попытались мы ей помочь, не заметили, как подобралась к нам сине-бурая туча, тяжелая, как вымя породистой коровы. Разом стало темно, и обвалом накинулся на нас снег, сначала мокрый, потом настоящий зимний: сухой, крупнолохматый. Мы стали выбираться на бугор, чтобы укрыться под разлапистой елкой, и по дороге заметили дыбом торчащую из высокой травы лосиную копытную ногу.