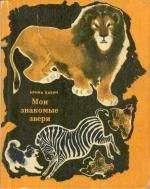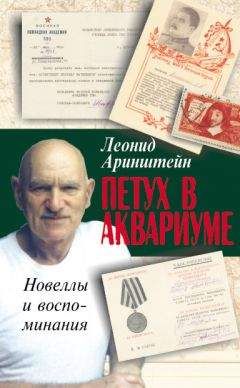И старушка согласилась.
В первый же день Лита разгребла и разорила аккуратную клумбу с гладиолусами. Время тогда было трудное, сын Анны Андреевны и невестка находились ещё в армии, и старушке с внучкой приходилось туго. Выручали эти самые гладиолусы: Анна Андреевна выращивала их на продажу.
При виде сломанных, истерзанных цветов она даже заплакала.
— Анна Андреевна, не огорчайтесь, — уговаривала я старушку. Я выдрессирую Литу так, что она и не подойдёт больше к клумбе. Зато яблоки ваши будут целы.
Однако выдрессировать Литу мне так и не удалось.
В школе наступили каникулы, времени у меня было много, и я с утра уходила с Литой то в лес, то на школьный огород — он был окружён забором, к которому я и привязывала собаку. А вечером я приходила домой и привязывала Литу под верандой — до самой ночи, пока мы не шли в комнату спать. Спать на улице она ни за что не хотела. И вообще она не хотела — или не могла — ничему научиться: не носила поноску, не реагировала на команду «ко мне», а слова «нельзя» просто не признавала. Ходить с ней по улицам было сущим мученьем. Лита начинала идти слева, через минуту перебегала направо, потом обходила меня сзади, и я останавливалась, опутанная длинным ременным поводком.
А если я поводок укорачивала, то было ещё хуже: Лита так дёргалась, подвывала и рвалась, что хоть и вовсе на улицу не выходи.
Да что там команды или ходьба на поводке! Лита даже имени своего как следует не знала и откликалась на любую кличку.
— Жучка, Жучка, — кричала ей соседка. И Лита радостно бросалась на зов.
— Шарик, фью-ить, — свистел ей прохожий. И Лита, натянув поводок, волокла меня по улице.
Любимым развлечением моих одноклассниц стала игра в «злую собаку».
— А я вот твою хозяйку как стукну! — кричала моя подружка Зойка и замахивалась на меня палкой.
Лита сначала заинтересованно следила за движением палки над бедной моей головой, а потом с радостным выражением на усатой морде начинала прыгать вокруг Зойки и ластиться к ней.
Все вокруг помирали со смеху, а я с трудом сдерживала слезы.
И что самое интересное: я всё равно любила это бестолковое создание. Любила — и всё тут. Ведь это была моя собака, моя собственная, пусть глупая, но моя.
А время шло, и яблоки в саду Анны Андреевны из маленьких и зелёных стали крупными, жёлто-розовыми, и перепачканные физиономии соседских мальчишек всё чаще и чаще заглядывали к нам через забор. В их садиках росли точно такие же деревья, и зрели на них такие же жёлто-розовые яблоки.
Но их тянуло в чужие сады, и Анна Андреевна попросила меня не привязывать больше Литу.
— Бог с ними, с гладиолусами, — говорила она, — яблоки важнее, я повидла наварю, на всю зиму Юленьке будет…
У Литы началась счастливая жизнь. Целыми днями она могла бегать по садику, где ей заблагорассудится. Правда, любимым её занятием в это время было рытьё нелепых глубоких и узких ям под верандой. Горы земли и мусора громоздились на чистенькой прежде дорожке вокруг дома, но Лите прощалось и это: ведь она стерегла яблоки.
И вот однажды, когда я в маленькой кухоньке занималась стиркой, у дома послышалась какая-то возня.
— Лита, — звал детский голос, в котором звучали слезы, — ну, Лита, ну, пойдём же, пойдём!
Я узнала голос хозяйской внучки.
«Видно, хочет поиграть с собакой, а та, знай себе, роет яму», — подумала я.
Но тут затопотали маленькие ножки, дверь кухни распахнулась, и на пороге вся в слезах выросла Юленька.
— Дай мне, пожалуйста, кусочек хлеба, только поскорее, — попросила она.
— Хлеба? Ты что, проголодалась? И почему ты плачешь?
— Это не мне, это Лите, — еле выговорила Юля. — Там… мальчишки… яблоки трусят… А она… она увидела и всё равно роет яму. Я зову её в сад, а она… не идёт… и роет. Так я её хлебом поманю…
Пулей выскочила я в сад, размахивая подвернувшейся под руки метлой.
Завидев меня, мальчишки слетели с яблони, как воробьи, и скрылись за забором. Ещё не дозревшие желто-розовые яблоки густо усеяли землю под деревьями. А на всё это безобразие спокойно взирала своими глазами-пуговицами моя дорогая Лита…
Много знала я собак, были все они разными по характеру и привычкам, но такую собаку я встретила всего один раз.
Мы и расстались с ней по-глупому — просто однажды она, как это частенько бывало, выскочила на улицу и не вернулась.
Все мои поиски, объявления, горькие слезы ни к чему не привели.
Наверное, её просто поманил за собой какой-нибудь прохожий…
Тузик был похож на маленького гималайского медвежонка: такой же пушистый, маслянисто-чёрный, с белоснежным треугольничком-манишкой на груди. Только походка была у него, конечно, не медвежья, вперевалочку, а собачья — лёгкая, пружинистая. Жил Тузик у Вали, моей закадычной подружки по студенческим годам.
— Тузейший, славнейший, — говорила Валя медовым голосом, почёсывая Тузика за ушком. И пёс от восторга и умиления прямо-таки растекался по полу. Он распластывался у Валиных ног, закрывал глаза и даже постанывал, растянув в преданной собачьей улыбке чёрные губы.
Вообще, собаки с такой мимикой я никогда не видела. Мордочка Тузика отчётливо выражала радость, скуку, обиду, веселье, раздумье, удивление…
Мы сидим и готовимся к зачёту. На улице весна, виноградная лоза, оплетающая стену маленького одноэтажного Валиного домика, пронизана солнцем. Тузик спокойно дремлет у наших ног.
Вот на край резного листа присела белая бабочка, и Тузик, очевидно, услышал шорох её крыльев. Приоткрыл один глаз, поводил им из стороны в сторону, увидел бабочку и тут же широко открыл оба глаза. На морде так и написано: «Уф, как интересно!» Бабочка поползла по листку, и вслед за ней потянулась узкая собачья мордочка. Не выдержал — вскочил, сунул нос прямо на подоконник. Бабочка взмахнула крыльями, взлетела. Тузейший, опершись передними лапками о подоконник, напряжённо следит за её полётом — вертит головой, разыскивая крошечный белый лепесток в голубом небе. Упустил из виду, нет бабочки. Тузик раздосадован. Он тонко скулит, пытается влезть на подоконник, потом глазами, полными обиды, смотрит на нас, — мы хохочем, — и ложится у наших ног. Тяжёлый вздох…
Мы снова берёмся за конспекты — они лежат на диване вокруг нас, на стульях и даже на полу. Через минуту Валя осторожно толкает меня локтем в бок: Тузик уже не похрапывает, а с чрезвычайно деловым видом разглядывает толстую общую тетрадь с записями. Он наклоняет голову то в одну сторону, то в другую, трогает тетрадь лапой и на всякий случай тихонько рычит. Потом засовывает влажный свой нос в самую середину тетради…