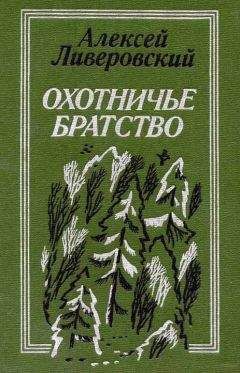После демобилизации из армии Воля занялся делом, как теперь бы сказали, не престижным, но которое его, да, пожалуй, и нас, очень устраивало. Он стал «ловцом» на туляремийной станции. В его обязанности входило в случае подозрения на очаг туляремии среди грызунов выехать на место и отловить необходимое количество мышей. Он забирал с собой капканчики и выезжал за город на несколько дней, получив в дорогу узаконенную норму спирта. Между выездами Воля всегда мог поехать на охоту с нашей компанией. Это он ценил, и для нас он был приятный компаньон.
Я уже говорил, что Воля очень любил собак, трогательно любил. Вот такой случай. У него была ласковая, совсем домашняя англо-русская гончушка Кама. Имя он дал ей по нашей традиции называть гончих именами рек, а тут еще и память о днях гражданской войны. Мы поехали с Волей вдвоем в деревню Сырковицы. Собачонка гоняла отлично — правда, иногда подвирала. Воля говорил: «Она нервная». Мы взяли зайца почти на подъеме. Второй сделал два круга и замелькал передо мной на противоположной сосновой рёлке; между нами было небольшое, покрытое осокой, замерзшее болотце. Заяц быстро катил мне в ноги. Далеко позади него на рёлке показалась Кама. Я выстрелил, заяц кувыркнулся через голову — и вдруг раздался истошный визг. Я кинулся к собаке, Воля поспевал сбоку. Кама сидела на тропинке и плакала, из губы у нее текла кровь. Я понял, что крупная дробина, а может быть, и не одна, рикошетом отскочила от гладкого льда болотца. Кама плакала, но кровь шла не сильно. Осмотрев собаку, я больше никакого повреждения не нашел и обрадовался. Но не так к этому делу отнесся Воля. Страшно ругаясь, по-флотски понося «идиотов, которые стреляют куда попало», он схватил собаку в объятья и понес ее домой. Мне стало ясно, что, во-первых, охота безусловно окончена, а во-вторых, что Воля не скоро простит мне этот совершенно непредсказуемый и нелепый случай.
У Воли англо-русская гончушка Кама.
В компании Воля обычно говорил мало, спокойно, слегка растягивая слова и произнося чуть в нос. Мягко вступал в разговор, если Женя Фрейберг, рассказывая об их военной жизни, допускал хотя бы небольшую неточность. Женя никогда не хвастал, но, конечно, мог забыть какую-нибудь деталь. А Воля был абсолютно точным.
Много раз мы спрашивали его о том, как он поставил рекорд России в высотном прыжке. Воля нисколько не смущался, говорил: «Ну, теперь ребята куда сильнее прыгают — за два метра. Да, видишь, трудно было нам. Я, конечно, прыгал за девяносто, но ведь хорейном: мы должны были, приземляясь, обязательно встать на ноги, иначе прыжок не засчитывался. А теперь, смотри, как идут через планку и как ложатся, — абы как!»
Насчет «военных подвигов» тоже был туговат на рассказы и вместо геройских поступков вспоминал совершенно неожиданное: «Мы шли вниз, дело было к осени, вахтенный мне говорит: посмотрите, гусей-то, гусей! На отмели сидела огромная стая гусей-гуменников. Я пошел к Женьке, говорю: так и так, хорошо бы гусятинки. Он говорит: ладно, только поскорее и поменьше шума. Дали мы очередь из „максима“, подоспели на шлюпке к отмели, притащили на корабль пять здоровых жирных гусей…»
Не упомнить, сколько раз мы с компанией или вдвоем с Волей выезжали на охоту с гончими. Но не уходят из памяти подробности охоты с трагическим концом.
Мы поехали с Волей на станцию Еглино в охотхозяйство Лесотехнической академии. С нами было две собаки: Волина Кама и очень похожая на нее по рубашке Пышма Померанцева — любимица нашего кружка, изящная, веселая. Жила она у Померанцева, надо сказать, на правах любимой дочери: не слезала с его кровати или колен. По лесу она носилась как молния; подняв зайца, прямо висела у него на хвосте. Голос ее, льющийся ручейком, был доносчивым, хотя и довольно тонким. Было уже близко к закрытию охоты, лежал довольно глубокий снег, морозило. В ельниках у речки Еглинки смычок поднял зайца. Для собак тропа была тяжеловата, но они работали отлично, гон шел ровно, сколов почти не было. Но вот подстоять зайца, белого, мелькающего в густом, заснеженном ельнике, нам никак не удавалось. Прошел час, другой, третий… Мы остановились позавтракать. Пытались снять собак — ничего из этого не вышло: собаки обазартились, не шли ни на трубу, ни на голос. После пяти часов такого гона заяц стал ходить на мелких кругах по своим же следам, протаптывал целые канавы буквально вокруг нас. Ни на минуту мы не теряли голосов собак.
Вдруг горячий гон прервался страшным воплем, неистовым воплем какой-то из собак. Я кинулся на крик, Воля за мной. Навстречу нам в ноги бросилась Кама. Я выскочил на маленькую чистинку среди елового леса, заметил какие-то серые тени, исчезающие под еловыми лапами, и пятна крови на снегу. Прислонясь к поваленному дереву, закрыв глаза, сидела Пышма. Кишки вывалились из ее распоротого живота, на снегу — не могу забыть! — гладкий пласт печени. Подбежал Воля, сел рядом на снег, побоялся взять собачонку на руки, прислонился к ней головой и заплакал горько, громко заплакал. Пышма застонала. Я сказал: «Отойди». Он понял, отошел, говоря: «Уйду, уйду — не могу смотреть!» Я точно выделил и нажал курок.
Как сказать об этом Виктору?
На следующий же день Воля вернулся в Еглино с капканами, поставил их около места трагедии. Неделю жил в деревне, хотел отомстить «этой сволочи». Мы все поклялись отомстить волкам.
Брат мой Юрий тоже был очень огорчен, он знал и любил эту собачку и понимал, каково сейчас Виктору. Он написал и прислал нам стихи, мы прочли их, собравшись всей компанией перед закрытием сезона в домике лесника. Вот эти стихи:
Там, где ельник буреломный,
Где осинки точно спицы,
Спал в болоте волк огромный
И матерая волчица.
И, наверно, снились волку
Ярость бешеной погони,
Окровавленные телки,
Обезумевшие кони.
Но когда взлетели с веток
Перепуганные птички,
Расколола шорох ветра
Гончих яркая помычка,
И пошел беляк по чаще
После быстрого дуплета
Там, где ельник мелкий чаще,
В шубу снежную одетый.
А за ним до самой ночи,
Привороженная к следу,
Стала «плакать» пара гончих,
С тишиной ведя беседу.
Но когда припудрил вечер
Позолотой легкой елки,
Гону звонкому навстречу
Поднялись с болота волки.
Было видно белке ловкой
С высоты столетних сосен:
Серый зверь убил выжловку
И в сугроб лениво бросил…
Уйдя на пенсию, Воля вместе с женой Катей жил летом в наших Домовичах, на озере Городно. Они снимали «наземку» — зимнюю половину дома председателя колхоза. Воля завел лодочку с подвесным мотором, иногда ловил рыбку, но не очень любил выезжать на озеро, считая его бурным и коварным. В поздние годы, не увлекаясь ни охотой, ни рыбалкой, ни грибами, он часто сидел на лавочке у берега озера, наблюдал и думал. Выходил к нему из соседнего дома друг Женя, подсаживался, и начиналась неторопливая и почему-то всегда юмористическая беседа: «А помнишь…» Широка была география этих воспоминаний, звучали необычные туземные слова. По субботам, после бани, старики выпивали водочку помалу — совсем не так, ой не так, как в молодые годы! И опять шли воспоминания.