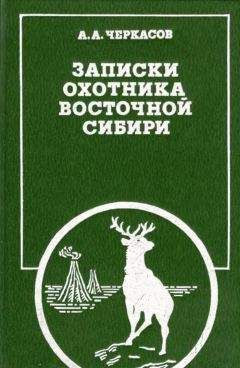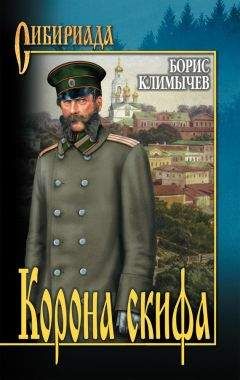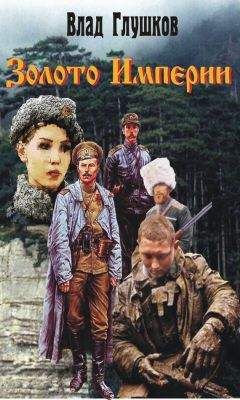Если допустить, что пьяный Донской упал прямо с поступи, на-косых, то есть по диагонали колодца шахты, то он мог только удариться о ее стенку, а попав на какое-нибудь высунувшееся бревно, непременно бы убился или жестоко расшибся, пролетев такую внушительную глубину. Но дело в том, что Донской был весь цел и невредим, а чтоб попасть туда, где он просидел около четырех дней, пришлось спустившемуся товарищу разрабатывать инструментом из висящей над пропастью бадьи.
Вся эта штука была загадкой тогда, остается загадкой и до настоящего дня.
Когда я лично спрашивал Донского о случившемся, то он говорил, что ничего не знает и сам не понимает того, какими судьбами очутился он в старой шахте за ее ветхой крепью.
Когда же я спросил его о том, что, вероятно же, он помнит то время, как пошел из Михайловского рудника, хорошо зная, что будь он без памяти или в совершенном бессознании пьяного человека, но еще крепкого на ногах, то его ни за что бы не отпустили хозяева.
— Как не помнить, ваше благородие! Это я хорошо помню и как теперь вижу, — говорил он, — что когда я вышел из Михайловского, то догнал своего товарища (имени и фамилии я не упомню), который сказал мне:
— А, Митька! Это ты? Так пойдем, брат, вместе.
— Я говорю — Пойдем! Но когда мы пошли рядом и стали разговаривать, то мне и помстилось — как же это, мол, так? — он покойный, а я живой, а идем, значит, вместе. И знаете, ваше благородие, как передумал я это на уме, и так мне сделалось страшно, что и сказать не умею. А он словно заметил, что я трушу, да и говорит:
— Ты чего, Митька, боишься? Я ведь живой!
— Я поглядел на него, да и подумал опять — живой! Взаболь живой! Так чего же я струсил? Иду, значит, все рядом и бояться не стал, и на душе стало полегче; иду да и вижу, что недалеко деревня, значит, как следует деревня — и дома стоят, и дворы, и огороды. Он остановился да и говорит: «А что, Митька, зайдем ко мне да выпьем по рюмочке». — «Ну, что ж, говорю, пожалуй, пойдем».
— Вот мы зашли; я сел на лавку, а он достал полуштоф, налил стакан да и потчует, — на, говорит, пей на здоровье!
— Я, знаете, принял от него стакан, как теперь вижу, в левую руку, а правой-то перекрестился — да больше, ваше благородие, ничего и не помню, и где нахожусь — не знаю! А когда мне стало холодно и я словно очнулся, то увидал, будто в сумерках, что я сижу на каком-то бревне, а где именно и понять не могу. Потом сделалось маленько посветлее, и я разглядел, что нахожусь в какой-то старой шахте, за крепью!..
— Ну хорошо, Донской! Значит, ты пришел в себя, отрезвился, — так что же ты думал и соображал?
— Ох, ваше благородие! О чем я думал целых три ночи и почти четыре дня, то уж и вспомнить боюся, — инда душа замирает… Сколько я молился, сколько слез выплакал, сколько кричал до того, что грудь заболела!.. Да нет, барин, всего и не спрашивайте. Да мне всего и не рассказать, что я перенес и вытерпел…
Я, конечно, сейчас же прекратил беседу и хотел Донского угостить водкой, но он отказался и сказал, что после того случая пить вино совсем перестал, так что вот уже несколько лет, как и в рот не берет этого проклятого зелья.
— Ну, а вот что, Донской! — спросил я. — Тот, с которым ты шел, был действительно покойный?
— Как же, барин, — покойный; это и товарищи мои все знают, что он умер до того случая года за полтора. Я и теперь иногда за него служу панафиды, а то нет-нет да и приснится, царство ему небесное!..
II
Написав уже несколько листов этих воспоминаний, я до сих пор нисколько не познакомил читателя с особой моего хозяина, чистого типа еврея Кубича. Этот небольшой, седенький человечек был крайне симпатичной личностью как по своему поведению, опрятной и строгой жизни, так по уму и своей начитанности, не только по халдейской, но и русской библиотеке, особенно книг духовного содержания и догматов веры, на которые он смотрел с такой точки зрения, что трудно было верить тому, что это говорит еврей, да еще раввин между своей братии. Он, например, нисколько не отвергал великого учения Спасителя и с благоговением относился к святому евангелию, а когда я попросил его перекреститься, то он сделал крестное знамение и несколько улыбнулся, как бы в том смысле, что ты, дескать, этого не ожидал от еврея, а я вот взял да и перекрестился…
Кубич частенько приходил ко мне вечерами, нередко просиживал до глубокой ночи, рассуждал о разных разностях и выспрашивал о газетных толках и о современной политике. Видимо было, что он знаком с географическим положением государств и понимал их отношения между собою. Но всего забавнее было то, что старик чрезвычайно любил анекдоты, особенно те, в которых остроумие или соль речи играли первую роль. Так как я в то время знал массу всевозможных курьезных рассказов, то Кубич частенько после назидательных повествований с особенным вниманием слушал мои анекдоты и хохотал до слез, а однажды не вытерпел и сконфуженный выбежал на улицу из моей избенки, так что в этот вечер я уже не мог заманить старика послушать еще другой, более занимательный казус.
— Нет, — говорил он, — будет! Я и без другого не усну теперь целую ноц.
Кроме Кубича ко мне несколько раз заявлялся ссыльный еврей Ицка, еще совсем молодой, рослый, здоровый мужчина, бывший солдат, но пришедший на каторгу за дезертирство и контрабанду, как значилось по его «статейному списку». Этот человек был крайне веселого характера и, что всего невероятнее, — охотник в душе. Еврей — охотник! Да еще такой, который очень недурно стрелял на лету. Он не один раз ходил со мной на охоту за куропатками и зайцами, стреляя последних очень удачно. Вот он-то отчасти и снабжал г. Явениуса этой дичью. Он говорил, что за свою ловкость стрелять он и пришел в каторгу, а за что именно, ни за что сказать не хотел — это была его тайна, а что аттестат его неверен. Ицка довольно чисто говорил по-русски и не один раз потешал меня своими рассказами из солдатской жизни в западных губерниях. Крайне сожалею, что в то время не записывал хотя бы только одну суть его повествований; в них было столько соли, комизма, юмора и замечательных изворотов и хитростей, что никакие анекдоты не сравнятся с той искренностью и правдою, которые вытекали сами собой нз действительной жизни солдата того времени. Тут Ицка был настоящим, неподдельным комиком, потому что черпал все это с натуры и изображал в лицах так рельефно, что невольно у слушателя представлялась полная картина всего происходившего, как бы перед собственными глазами, и не было сил удержаться от душившего смеха. Одна мимика Ицки чего уже стоила! Вот бы эту бестию выдвинуть на сцену да показать публике!.. Он бы, наверное, затмил современных Вейнбергов, а его рассказы положительно выше по содержанию и правде сказок казака Луганского (Даля).