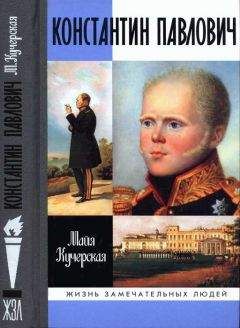— Природа положила, — сказал Семен. — Я вот недавно у одного профессора читал: человек по всем законам природы должен жить полтораста лет. Пол-то-рас-та! Понял? Это как минимум. А живет сколько? То-то и оно!.. А ты говоришь…
Женька ничего не говорил. Он не мог отвести взгляда от пробегавших мимо прямых и высоченных сосен, с бугристыми утолщениями снизу, и вольно, почти недосягаемо разветвившихся поверху.
Округлые стволы словно были подсвечены изнутри: янтарными подтеками проступала на них смола, и стойкий колобродящий запах носился в воздухе.
— Полтораста? — удивленно переспросил абориген. — Вот это да!..
Отчего же не получается такая длинная жизнь? Положено, говоришь, а не получается…
— Психика подводит, — сказал Семен и покосился на Женьку. — Профессор так и пишет: самоуничтожением занимается человек, жизнь свою укорачивает вдвое, втрое, а то и больше.
Крохмалев вздохнул.
— Как же без психики? Нельзя человеку без этого…
Семен загадочно посмеивался:
— А что, Егорыч, хотелось бы лет этак сто пожить? Вот бы наделали мы с тобой делов!..
— Кому нужны наши с тобой дела?
— Нам с тобой. Кому же еще!
— Только-то и всего…
Все вокруг было так прекрасно и чисто и столько жизни было в каждой веточке, в каждой травинке, что думать о смерти сейчас казалось нелепо и смешно.
Такого леса Женька никогда еще не видел и не представлял, что лес может его так поразить необычайностью красок — не пестротой и яркостью, а мягким отливом зеленого, желтого, синего… И таким же мягким переходом зеленого в синее или желтого в зеленое…
— Вот лесу-то! — воскликнул Семен, не замечая, вероятно, того, что видел сейчас Женька: ни буйства красок, ни едва уловимого дыхания тайги.
— Да, да, — покивал головой, Крохмалев, — лесу тут море. Сгинуть в нем можно.
— Прошлое воскресенье мы тут гоняли маралушку…
— Так запрет же на них…
— Ха, запрет! Много тут запретов… — сказал Семен с явным намеком на что-то известное только им двоим, и Крохмалев опять торопливо и согласно покивал головой:
— Оно, конечно, запретов хоть отбавляй.
— Теперь левее держи, — приказал Семен. Машина зашуршала по траве, с хрустом ломались под колесами сучья, их становилось все больше, они лежали ворохами, и пришлось их объезжать. Семен привстал с сиденья и весь подался вперед, то и дело покрикивая:
— Левее, левее… Да левее же, дьявол!.. В яму угодишь.
Абориген крутил баранку молча и остервенело, машина вздрагивала, подпрыгивала, и при каждом толчке в металлическом ее нутре что-то подозрительно булькало и громыхало.
— Стоп! Приехали!
Семен толкнул дверцу и вывалился наружу. Женька тоже вышел и задохнулся — так вольно, свежо, покойно было вокруг. Не хватало легких, чтобы вобрать в себя разом всю эту чистоту и свежесть воздуха, пронизанного острыми запахами леса, какихто трав, причудливо сплетавшихся и не успевших еще просохнуть, волгло и мягко стелившихся над землей. А от самой земли, устланной прошлогодними листьями и слежавшейся хвоей, исходил спиртовой запах, и он слегка кружил голову… Женька расстегнул ворот рубахи и привалился спиной к шероховатому стволу лиственницы. Сухая кора шелушилась и опадала к его ногам. Чуть поодаль, в траве, едва приметно желтели бревна. Они лежали рядышком, одно к одному, ровные и прямые, с уже захолодевшими подтеками смолы. Семен сел на одно из них, достал папиросы, пошарил по карманам и вытащил коробок. Тряхнул — есть спички. И лицо у него при этом было какое-то закаменевшее, без выражения. Абориген взял из его рук папиросу, опустился рядом, и они жадно и торопливо задымили. Женьку они не замечали, как будто его и не было рядом с ними.
— Заберем все? — спросил Семен. — Многовато. Попробуем. Хороши сутунки! Куда ты их сплавляешь-то?
Семен неопределенно махнул рукой, закашлялся, глубоко затянувшись, и постучал себе по груди:
— Вот бес… аж слезы из глаз!.. Сплавляю, говоришь, куда?.. — глянул коротко, недоверчиво и отвернулся. — А это уж мое дело. Лес нынче в ходу. Ну, пошли!..
Крохмалев встал и отбросил в сторону окурок. Семен опасливо покосился на него:
— Спалишь, тайгу-то.
Крохмалев зачем-то потрогал комель бревна, скинул пиджак, и поплевал на ладони.
— Эй, паря! — сказал Семен, поглядывая на Женьку исподлобья. — Давай-ка разомнемся…
Открыли задний борт и один боковой, положили два крепких сосновых стяжка, и Крохмалев скомандовал: «Взяли!» Он упирался в один конец бревна, а Семен и Женька накатывали с другой стороны. Бревно чуть сдвинулось с места, подмяв под себя хрусткие и сочные стебли бадана. Смола клеилась к рукам.
— Еще взя-яли! — яростно выдыхал Крохмалев. — Раз-два… взяли!..
Бревно туго подавалось. Ладони ошпаренно горели, но Женька не обращал на это внимания. Рядом сопел, покряхтывая, Семен.
— Ну, что ж вы… мать вашу!.. — выругался абориген. — Налегайте как следует. Разом, разом налегайте. Ну! Взяли!
«Сколько же весу в этом бревне?» — подумал Женька, нащупывая ногами опору. Пошло помаленьку, подалось. Еще разом!.. «Наверняка полтонны…» Вот эта работка так работка! Они упирались изо всех сил, лица их побагровели, рубахи сразу же взмокли и неприятно липли к телу. Хоп! Бревно грохнулось в кузов и откатилось к борту.
— Эх вы, слабаки! — сказал абориген.
— Тяжелая, стерва! — оправдывался Семен, струйки пота стекали у него со лба, он облизывал пересохшие губы и шумно, сипло дышал.
Вид у него был жалкий, загнанный. Несладко, видно, такому хилому ворочать тяжести. Женька перешагнул через бревно, наклонился над ним и снизу весело, вызывающе посмотрел на Крохмалева:
— Взяли?
— Смотри, не надорвись, — предупредил тот. — Кому отвечать-то?..
Но Женька уже подхватил бревно, напружинив ноги, и каждая жилка в нем напряглась, натянулась предельно, будто таившаяся до поры где-то внутри сила вдруг проступила и расплескалась по всему его телу. И Женька ощутил прилив внезапной радости от сознания собственной силы, от того, что эта сила принадлежит ему и он может ею распоряжаться, как захочет. Семен молча и с интересом следил за ним и словно бы подзадоривал: а ну-ка, покажи, на что ты способен, покажи! Женька рывком толкнул бревно, подхватил обеими руками и покатил — пошло, пошло, пошло!.. Семен тоже пристроился посередине, но они и без него бы справились. Второе бревно показалось легче, а третье и вовсе само катилось… Крохмалев даже командовать перестал. Работали молча, споро. И все же последние бревна снова потяжелели, будто свинцом налились. Пришлось повозиться.