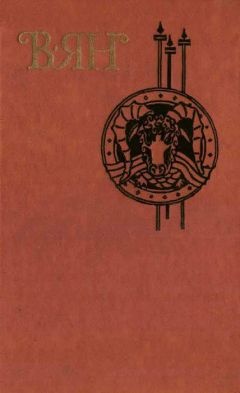«Сталоверка, говорит она, я, да и только! И ты, говорит, должен в нашу веру оборотиться…» Я любил ее, конешно, а сладить с ней не смог! В церковь нашу она меня не пускала. Ну, коли она уедет в воскресенье кататься, я тем временем сбегаю на погост, с полверсты он от нас будет, не больше. Узнала она про это. Один раз меня не было дома, я в город по своим делам уехал. Приказала она заложить сани и сказала, что кататься поедет. А кататься она любила. Села и укатила и сына с собой взяла. Вернулся я, нахожу записку: «Прощай навсегда. Не сумел меня подогнуть, так и не удержать подавно. А с никонианцем жить не хочу».
Сперва я был как бешеный! Чего я ни делал, и полицией, и судом хотел ее вытребовать, и к ней ездил. Приехал раз под ее окно в беговых дрожках.
Окно раскрыто, в окне сынок сидит. И узнал меня, закричал: «вон тятька приехал!» Да сама подбежала: «Врешь ты, это не твой тятька; твой тятька давно умер!»— схватила его в охапку и унесла. А тут собаки были спущены, мой жеребец испугался и понес дрожки…
На сталоверку я рукой махнул, с ней ладу не будет, она с норовом. Да там еще появился около нее какой-то начетчик, или прикащик, с ней все время вместе ездит. Они уже, видно, сговорились и поладили. А вот сын! Я думаю о нем день и ночь, сон в голову нейдет, сердце кровью обливается.
Решил я его выкрасть. Найду людей, которые это сделают. Мне самому туда нельзя сунуться, меня там всякая собака знает. А вот кто чужой мог бы это сделать? Возьмись за это молодец хороший: коли выкрадешь сына, сто рублей денег дам!..
Насчет кражи ребенка мы не договорились: купец захмелел и вскоре заснул.
Дальше опять была та же уезженная дорога, сугробы, обнаженные стволы берез, засыпанные снегом ели, заячьи следы возле опушки леса; те же, точно зарывшиеся в снег, деревни, так же похожие одна на другую, как и встречные мужики.
Лежа на дровнях посреди длинного обоза, мои сани — шестые от его начала, за мной — саней шестнадцать или двадцать, от нечего делать я пересчитываю их, и цифра постоянно меняется, — задние то отстают и исчезают в морозном тумане, то догоняют и едут в хвосте обоза.
Впереди я вижу силуэты передних ездоков; первой идет коренастая гнедая лошадка, вся запорошенная инеем. Она идет шагом, поматывая головой; на ее дровнях лежат два куля, вероятно, с солью, а хозяин спит; сквозь сумерки видны три горба, но который из них тут хозяин, не разобрать…
Дорога все время вьется: передние пять саней то заворачивают, и я вижу их все — одни за другими, то выравниваются впереди гуськом в линию, их уже не видно за крупом моей лошади.
Мороз градусов 20. Тихо, ветра нет. Вечер. Но сколько времени, определить нельзя: в декабре темнеет уже около 4 часов дня, и затем тянутся монотонные сумерки вплоть до 7–8 часов утра следующего дня.
Можно бы определить, который час, — но для этого нужно распахивать полушубок, расстегивать куртку, снимать рукавицы и вытаскивать часы, а на морозе сейчас же холодные струйки пробегут по всему телу, через несколько секунд руки окоченеют, и долго нужно будет потом похлопывать рукавицами, пока достигается снова равномерная температура…
Да и не все ли равно, сколько времени? Дорога дальняя, ехать еще придется ой-ой сколько, еще впереди две остановки на постоялых дворах; стало быть, лучше не думать вовсе о времени, а заснуть, или мечтать, или болтать с мужиками, — вместе с лошадьми понемногу и время незаметно подвинется вперед.
В дровнях я лежу на сене, но сено постоянно разлетается, и я оказываюся на куле с солью, который тверд, как камень, и отлежал мне бока.
Соль все время просачивается и мажет мой полушубок. Возле меня торчит из сена бутыль с керосином, который бултыхается на выбоинах дороги. Возница мой лежит на дровнях, рядом со мной; он поднял высокий воротник своей шубы, поднявшийся выше его головы, и молча смотрит сквозь щель, а может быть, и спит, кто его знает… Ему тепло лежать, у него полушубок и сверху надета просторная дубленая шуба, на ногах лапти, — самая теплая обувь в дороге, лучше всяких валенок.
Я же одет холоднее, мороз нагрянул неожиданно, а до Рождества там, где я странствовал, все время была оттепель. На мне один «романовский» полушубок и высокие сапоги — самая непрактичная одежда в мороз; на голове башлык; я лежу на боку, подобрав ноги и спрятав их под длинной полой полушубка. Но чуть только задремлешь, невольно вытянешь ноги, и мороз начинает кусаться.
Почти совсем надо мной свесилась добрая, мохнатая голова идущей следом лошади. На ее морде висят сосульки, шерсть взъерошена и покрыта инеем. Лошадка аккуратно следует за нами, мерно покачивая головой при каждом шаге. Передние лошади побегут рысью, наша подтянется, задняя не отстанет, и весь обоз затрусит вперед, пока передняя не пойдет опять шагом; тогда мужики встают с дровней, идут рядом по дороге, сходятся по двое, трое.
Все они ездили во Ржев, за 80 верст, продавать лен и теперь порожняком возвращаются назад. Мой возница и трое мужиков с передних дровней поровнялись и пошли рядом.
— Ну, как, Василий Иванович, ты продал?
— Да неважно. Тихо нынче со льном.
— Да, тихо, тихо.
— А Иван-то Клементьич привез, говорит, во Ржев, ему дали по три с полтиной. Он и обрадовался, на тройке весь свой остатний лен свез, — и вдруг — два семь гривен! Он ждет день, — опять два семь гривен; ждет третий — два шесть гривен! Не назад же везти! Он заплакал даже, как лен отдавал!
— Да и купцам-то тоже поди неважно приходится. В одной единоверческой слободе человека три разорилось и закрыли свои лавочки…
— А что за седок у тебя?
— Да не знаю: учитель что ли, или из духовного звания. Обученный какой-то. Вероятно, защиты едет просить или на должность.
— Да, да, конечно: кто по своей охоте в дорогу отправится? Верно, неволя выслала.
— На Михайлов погост, говорит, пробирается.
Передняя лошадь опять побежала рысью. За ней подтянулся и весь обоз.
Мужики врассыпную бросились к своим саням. Рядом со мной опять очутился мой возница Василий Иванович.
Кругом белые снежные поляны, вдали видны черные силуэты деревьев, неопределенные какие-то темные пятна, вероятно, кусты. Изредка к дороге подступает опушка леса; тонкие и длинные ветви обнаженных деревьев производят впечатление прозрачности и воздушности, а в тумане весь лес кажется легким и дымчатым.
Иногда попадаются на дороге деревья. Тишина полная; в большей части изб огни потушены, кое-где горит огонь, и видна спина бабы в красной холстинной рубахе с красными вышивками на плечах; возле нее прялка…
Чья-нибудь фигура припадет к окошку, составленному из кусочков стекла, склеенных бумагою, и старается рассмотреть, кто едет по улице?