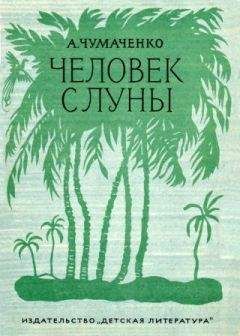— Война будет!— упрямо повторил Туй.— Мы сожжем их хижины.
— Мы вырубим их хлебные деревья. Мы убьем их детей…
— А они убьют ваших,— перебил его Маклай и быстро обернулся к молодому папуасу, стоявшему впереди всех: — А они убьют твою Машу. Ты хочешь, чтобы они убили твою Машу?
— Они испугали наших женщин! — так же упрямо продолжал Туй.— Они взяли кусочек мяса, который женщины не успели доесть. Они будут колдовать над ним, и все жители Горенду тогда умрут от их колдовства. Война будет!
— Война будет! — загудели опять папуасы.
И только молодой отец Маши почему-то молчал и смотрел на Маклая. Маклай снял с плеча ружье.
— Смотрите! — сказал он.— Видите птицу? Сейчас я пошлю в нее огонь, и она упадет мертвая!
И Маклай выстрелил. Распластав крылья, птица упала на землю. Среди взъерошенных перьев крупными каплями выступила кровь.
Папуасы бросились к птице. Они искали стрелу, убившую ее. Стрелы не было. Испуганные, они смотрели на ружье Маклая, которое они видели сейчас в первый раз. Некоторые затыкали уши, чтобы не слышать больше страшного грома.
— Если люди из Марагума придут в Горенду,— продолжал Маклай,— я брошу и в них гром и огонь, и они убегут и не тронут ваших женщин и детей. Но если люди из Горенду сами пойдут воевать с Марагумом, тогда будет большое несчастье. Я, Маклай, говорю вам это.
Растерянный Туй смотрел на Маклая и тяжело дышал.
— Какое несчастье? — наконец выговорил он.
— Я не скажу какое, я говорю только: большое несчастье.
— Скажи нам какое, Маклай!
— Вы увидите сами, если начнете войну.
— Может быть, будет землетрясение? Тангрин?
— Я не говорю, что это будет тангрин.
— Ты сказал: «большое несчастье». Тангрин — большое несчастье. Скажи, может быть, это будет тангрин?
— Может быть,— коротко ответил Маклай.
— Маклай говорит — это будет тангрин,— сказал Туй, обращаясь к папуасам.— Что страшнее тангрина?
— Мы не знаем ничего страшнее тангрина. Туй нерешительно переступил с ноги на ногу. Он смотрел исподлобья то на папуасов, то на Маклая и как будто не решался говорить дальше. Молчали и папуасы.
Маклай вскинул ружье на плечо.
— Я иду к себе,— сказал он.— Но я хочу слышать ваше слово. Я сказал: войны не будет. Пусть теперь люди из Горенду скажут свое слово.
Папуасы продолжали молчать. Выждав две-три минуты, Маклай повернулся и сделал несколько шагов. Чья-то рука остановила его.
Маклай повернул голову. Молодой папуас, отец Маши, смотрел на него.
— Войны не будет,— запинаясь, проговорил он и боязливо посмотрел на остальных.
Но Туй тоже кивнул головой:
— Войны не будет.
— Войны не будет! — уже совсем уверенно пронеслось в толпе папуасов.— Маклай знает, что говорит. Маклай — брат папуасов. Маклай не хочет несчастья людям из Горенду. Войны не будет.
Войны так и не было. Ульсону снова пришлось собирать мешок Маклая и, как только кончились дожди, провожать его в долгие путешествия: то на островок Тиару, то в горы, в деревню Теньгум-Мана, то еще выше — в Енглам-Мана. Маклай не бывал дома по нескольку дней, потом возвращался усталый в промокших и изодранных башмаках, с исцарапанными руками, иногда в приступе лихорадки, но всегда бодрый, с сумкой и карманами, полными всяких сокровищ. Тут были и крохотные стрелы, с которыми папуасы охотятся на громадных, полуметровых, бабочек, и шкурки ящерицы легуана, и нарядные катазаны — гребни с перьями, и мунки-ай — дудки из кокосовой скорлупы.
Иногда он приносил пару птиц, убитых им на охоте. Птицам Ульсон радовался гораздо больше, чем другим диковинкам. Он сейчас же принимался ощипывать их, мечтая вслух о всевозможных соусах и паштетах, которые можно было бы приготовить из дичи.
— Немножко мучицы,— приговаривал он, — и я вам испеку замечательнейший пирог.
— Муки нет уже давным-давно,— кротко отвечал ему Маклай.
— Ну, тогда немного риса. Из этого какаду я сварю такой суп, какой варят только у нас в Швеции…
— Вы же знаете сами, Ульсон, что риса у нас нет больше месяца.
— Ну, тогда хоть щепотку соли,— восклицал уже в совершеннейшем отчаянии Ульсон.— Как я буду жарить этого паршивого попугая без соли!
— Сейчас конец октября,— сухо отвечал Маклай.— Мы живем здесь больше года. Наших припасов хватило всего на два-три месяца. Вы сами это великолепно знаете, Ульсон, и каждый раз вы просите у меня то муки, то сахару, то масла, то соли. Как вы думаете, Ульсон, уж не прячу ли я это все у себя под подушкой и не закусываю ли я этим, когда вы спите?
— Я был бы идиот, если бы так думал! Разве я не вижу, чем вы питаетесь? Разве вы не ели вчера сырого краба? Вы — ученый человек, знаменитый путешественник, и… сырой краб! Фу!
— Почему же мне не есть сырых крабов, если их едят папуасы?
— Папуасы!..
И Ульсон сделал такую гримасу, будто ему дали понюхать что-то очень и очень противное.
— Ульсон! Если вы не хотите со мной ссориться,— твердо говорит Маклай,— бросьте эти ужимки и гримасы, когда вы говорите о папуасах. Папуасы ничем не хуже нас. Они меньше знают, это так. Но этого еще очень мало, чтобы вы морщили нос и кривили губы. Вот вы прожили здесь столько времени, а знаете ли вы, как живут папуасы?
— Очень мне надо! — упрямится Ульсон.— Довольно и того, что я вижу каждый день этих красавчиков.
— Красавчики они или не красавчики, совершенно неважно. Важно то, что они живут лучше нас. У них нет жрецов, которые их обманывают, богатых, которые их притесняют. Все, что у них есть, они делят между собой. Они справедливы и добры!
— Добры! Папуасы! Людоеды!
Возмущенный Ульсон с таким ожесточением кидается на бедного полуощипанного какаду, как будто перед ним уже не какаду, а самый свирепый и кровожадный людоед.
— За весь этот год я не видел ни одного случая людоедства,— так же твердо заявляет Маклай.— Может быть, оно и бывает во время войн, не спорю, по эти случаи становятся все реже и реже…
— Да, кстати,— заявляет с самым невинным видом Ульсон.— Помните, Туй взял у нас топор? Он обещал, что вернет его на другой же день, и вот…
Маклай нагибается к ящикам и вытаскивает из-за них топор.
— Этот? — спрашивает он и пристально смотрит на Ульсона.
У Ульсона сначала краснеет шея, потом уши и наконец все лицо, до самого лба — до самых светлых его волос.
— Ах, в самом деле! — удивляется он.— И как это я забыл?
— Вы ничего не забыли,— холодно говорит Маклай.— Вы просто хотели сказать плохо о Туе. Вы настоящий европеец, Ульсон. Цветные для вас или рабы, или врожденные преступники.