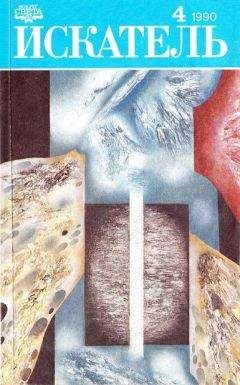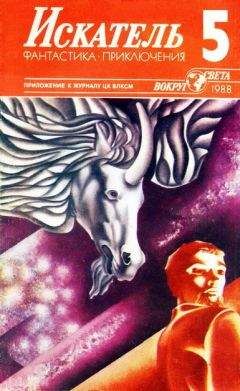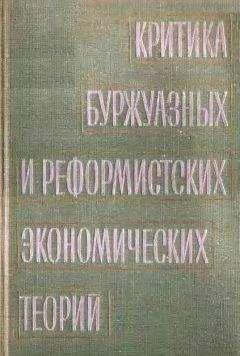Предстояло трудное путешествие в четыре тысячи верст из Аяна в Иркутск, через страшный Джугджур. Беспокоились, как перенесут путешествие дети: стоял август, с переменной погодой, ветреными и дождливыми днями и холодными ночами… Сверх ожидания, вся детская компания, за исключением Жоржа Завойко, который ехал верхом самостоятельно, как взрослый, великолепно пристроилась в корзинках по бокам лошадей. Это было, правда, подчас страшновато, особенно когда переходили вброд реки и ручьи, но зато как интересно!.. Так проехали около трехсот верст, а дальше пошло еще интереснее — в лодках по Мае, Алдану и широкой Лене…
В Иркутске почти не останавливались, не пожелала Екатерина Ивановна, она торопилась до зимы попасть в Красноярск к сестре. Геннадий Иванович спешил в Петербург.
Гнусные сплетни о Невельском опередили его: в Петербурге держались слухи, что ни один фрегат из-за мелководья бара Амура выйти из него в море не может. Продолжали обвинять в гибели «Паллады».
Этим, по-видимому, и объяснялось, что молодой император, принимая Невельского, к ласковым словам о том, что Россия никогда не забудет заслуг Невельского, прибавил сожаление, что Амур мелок и не годится для плавания… Геннадий Иванович остался верен себе и тут же возразил императору, что, наверное, скоро станет официально известно, что это не так.
И действительно, вскоре приехал капитан-лейтенант Чихачев с известием, что все суда благополучно вышли в море. Постепенно стала подтверждаться и справедливость многих других мероприятий и мнений Невельского: пришлось восстановить закрытые и поставить новые посты, занять Приуссурийский край и гавани до самой Кореи…
Несмотря на все это, контр-адмирал Невельской был сдан в архив и в числе награжденных, по случаю заключения Муравьевым Айгунского договора с Китаем, значился чуть не последним: первым шел председатель правления Российско-Американской компании Политковский, ровно ничего не сделавший для России, затем шли два друга Геннадия Ивановича — генерал Корсаков и контр-адмирал Казакевич, совершивший с Невельским первые и самые трудные шаги для ускорения постройки «Байкала» и открытия устья Амура. За Невельским непосредственно следовал бывший адъютант Муравьева генерал-майор Буссе!
Прекрасная, воодушевленная идеей любви к родине и ее величию жизнь окончилась. Наступило скучное, не дающее удовлетворения прозябание.
Что могло поддерживать эту жизнь в дальнейшем? Признание. Увы, Геннадий Иванович Невельской был лишен и этого счастья: еще при жизни он видел и горько переживал свое забвение. Мало того, ему пришлось отстаивать шаг за шагом и то, что им так блестяще было совершено, доказывать свершенное. Ему старались мешать жить хотя бы горделивым сознанием содеянного, тем нравственным удовлетворением, что жизнь прожита не напрасно…
Глубоко страдала за мужа Екатерина Ивановна. Уединившись в своей маленькой квартирке, они жили детьми, их печалями и радостями и друг другом…
В 1864 году перед совершенно лысым, с седыми висками, тщательно выбритым вице-адмиралом, одетым в форменный сюртук, предстал свежеиспеченный мичман.
Он только что вошел в кабинет и еще не оправился от неожиданной встречи с молодой, красивой и обаятельной по простоте обращения женщиной… (Наверное, дочь?)
Лицо юноши было покрыто здоровым загаром, глаза блестели и искрились каким-то внутренним привлекательным светом, но язык… Язык не повиновался, юноша молчал…
Вице-адмирал Невельской, член морского ученого комитета, оторвался от чтения, медленно повернул голову, потом быстро встал навстречу незнакомому гостю и, подавая ему руку, повел его к столу, усадил в кресло, уселся сам и сказал:
— Ну-с, рассказывайте, — после чего внимательно посмотрел на все еще молчавшего юношу. — Я слушаю вас, мичман!
Мичман с шумом вздохнул:
— Ваше превосходительство, я назначен в амурскую флотилию, на транспорт «Байкал».
— Плохо окончили?.. — спросил Геннадий Иванович.
— Нет, ваше превосходительство, в числе первых, — смутился юноша.
— Так что же вас погнали на Амур, да еще на старичка «Байкал»?
— Там не все еще, по-моему, сделано, — окончательно смутился юноша.
— Ну, конечно, там, на Амуре, еще самой черной работы, я считаю, лет на двадцать!
— И я так думаю, — согласился юноша, — и вот… пришел к заключению, что прежде всего надо провести канал из озера Кизи в пролив…
Геннадий Иванович кивнул головой.
— Да-а… а еще что?
— Еще… другой канал, у левого берега, от устья через бар, образуя, таким образом, основное русло…
Опять кивок.
— Ну?
— Ну вот я и решил добраться как-нибудь туда, а там заняться этими вопросами… И для этого два года дополнительно гидрографией занимался, заторопился юноша, глотая слова, — и даже по здешним данным кое-что вычислил и набросал.
— Катерина Ивановна! — вскочил Невельской и, указывая ей на вставшего и смущенного мичмана, сказал: — Посмотри на этого чудака, захворавшего Амуром и твоим «Байкалом», и уговори его не делать глупостей.
Мичман стал оправдываться, стараясь доказать, что это отнюдь не глупость.
— Ну ладно, — согласился в конце концов Геннадий Иванович, — оставьте мне ваши вредные бредни и зайдите вечерком в субботу, посмотрю, потолкуем.
«Почему «бредни» да еще «вредные»? — думал мичман, шагая по улице домой. — Сказал как-то особенно ласково и поощрительно!»
И в субботу, после часовой беседы с глазу на глаз, пили втроем чай и непринужденно долго-долго беседовали.
Уходил юноша счастливый, обогащенный не только расчетами, но и чертежами обоих каналов, давно намеченных и продуманных Невельским.
Мичман недоумевал: как же говорили, что адмирал нелюдим, угрюм, резок, крикун? А оказался понимающим, внимательным и добрым; ведь работа, которую он ему подарил, — это труд нескольких лет!..
И не подозревал мичман, что его приход всколыхнул прошлое, разбередил незаживающую рану, что в вечер первого его посещения Невельские долго сидели вдвоем, вспоминали свое уже далекое, но по-прежнему незабываемое прошедшее.
Как хорошо, что работа многих бессонных ночей перейдет в руки верующего в свои силы, чистого сердцем, такого же, как и сам Невельской, «безумца»!
Аманат — заложник.
Годой (1767–1851) — любимец испанской королевы Луизы и короля Карла IV, временщик, предавшийся Наполеону.