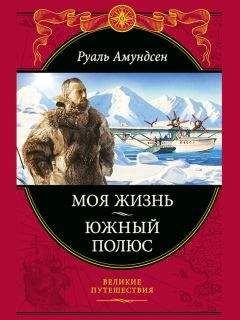В Вадзе нам повезло. Вся процедура была проделана в два часа. Интересно наблюдать эту сложную игру дирижабля с ветром и людьми, работающими у мачты.
Вот-вот кажется, что все уже хорошо и дирижабль причалит к вершине красного столба, но нет — направление угадано неточно, и осторожный капитан опять делает широкий круг, неповоротливый корабль тратит на это десятки минут, и новая попытка может оказаться такой же неудачной.
Я уже устал наблюдать эту игру, как вдруг что-то могучее, твердое потянуло нас вперед, и мы оказались на канате прочно прикрепленными к мачте. Нос дирижабля стоял у самой верхушки, в сажени расстояния от круглого красного балкона, обведенного железными перилами.
В широкие круглые отверстия в оболочке дирижабля, в окна и дверь каюты была видна толпа жителей Вадзе. Крики «ура» и звуки национального норвежского гимна доносились снизу.
Я вспомнил о том, что мне нужно давать телеграммы в Москву и Ленинград, и спросил полковника Нобиле, когда я смогу попасть на землю. Он обещал мне дать возможность спуститься вниз через некоторое время. Чтобы не мешать движению в тесной каюте, я поднялся в коридор и сел на узкой дорожке.
Чечони, огромный итальянец, старший механик «Норвегии», подлетел ко мне и выразительными жестами попросил меня подняться и пройти в глубь корабля к корме.
Мне это очень не понравилось, я хотел быть поближе к каюте, но пришлось подчиниться, и я перешел на несколько сажен вглубь. Через минуту фигура Чечони в шубе и меховой шапке вновь выросла около меня, и мне пришлось еще раз подняться и пройти еще дальше к корме.
Первое время я никак не мог сообразить, чего ему от меня нужно, почему это он отдаляет меня от каюты, когда я хочу быть поближе к выходу. К сожалению, объясниться мы не могли: итальянского языка я не знаю, Чечони же говорит только на родном языке. Однако вскоре загадка разъяснилась. Прошло четверть часа — и корма корабля стала упорно подниматься кверху, тогда как нос, крепко притянутый толстым тросом к башне, оставался на месте.
Нетрудно было понять, в чем дело. За двадцать часов нашего пути от Ленинграда до Вадзе мы сожгли почти весь запас горючего, весивший сотни пудов, и тем значительно облегчили нагрузку дирижабля. Если б он был на свободе, он поднялся бы вверх, но так как нос его был придраен к мачте, то корма забиралась кверху, грозя поставить корабль «на попа», то есть в вертикальное положение.
Словом, корма поднималась кверху, становилось трудно стоять, дорожка стала походить на крутую лестницу без ступенек, а Чечони все настойчивей и настойчивей требовал от меня и всех, кто был в коридоре, чтобы мы пробирались в самую корму для того, чтобы своим весом хоть немножко оттянуть ее книзу.
Вскоре я не мог уже вовсе двигаться назад. Ни стоять, ни сидеть на дорожке было нельзя, приходилось лежать на спине, держась руками за фермы над головой и упираясь ногами в соединение алюминиевых топких балок.
В таком положении я висел с полчаса. Внизу у ног зияли огромные отверстия. В эти отверстия виднелась недалеко, на двадцать-тридцать сажен внизу, земля, и мне казалось, что я сижу на скате крыши двадцатиэтажного дома и в любую минуту могу сорваться вниз.
Когда находишься на очень большой высоте, то чувство высоты пропадает, но когда земля приближается на несколько десятков сажен, оно опять воскресает с новой силой.
Сознаюсь, я был очень рад, когда по тонким трубкам бензин побежал в огромные белые баки, и, наливаясь горючим, корабль тяжелел и пригибался книзу.
Вскоре я уже имел возможность по почти ровной доске спокойно пройти к кабине. Нобиле сказал мне по-английски, что я могу сойти на землю.
Я оглянулся с недоумением. Внизу подо мной была кабина, окна и двери ее были раскрыты, но никаких признаков какого-нибудь человеческого способа спуститься на землю не видно.
— Идите прямо в нос! — кричит мне Нобиле, заметив мое смущение.
Тут я сразу вспомнил многочисленные снимки и картинки, на которых изображались причальные мачты с прикрепленными к ним дирижаблями.
Трап должен находиться в самом носу, откуда легко перебраться на верхний балкончик мачты. Через минуту я уже был в носу дирижабля, и итальянец-механик с приветливой улыбкой выбрасывал для меня легкую алюминиевую лестницу с крючьями на концах; крючья с одной стороны цеплялись за какую-нибудь балку дирижабля, а с другой захватывали железные перила балкона.
Я так был рад воздуху, свету и простору после сидения в полутьме внутренних помещений «Норвегии», что забыл на секунду о головокружительной высоте и сел на лестнице, свесив ноги по обе стороны.
Громкий окрик «Опасность!» вернул меня к действительности. Это кричал норвежский офицер, стоявший на верхнем балконе мачты; я сейчас же сообразил, что сидеть на этой тоненькой, плохо укрепленной лестнице, на высоте семнадцати сажен, не особенно остроумно, и поспешил перешагнуть на крепкий железный балкон.
Долго сходил я по бесконечным красным железным лестницам на талый снег норвежского островка. Внизу меня, как и прочих членов команды, радушно встретили норвежские рыбаки, жители крошечного северного городка. Я пил кофе, подаваемый молчаливыми норвежскими фрекен, гулял по еще не высохшим после весеннего половодья чистеньким улицам городка-игрушки, посылал телеграммы, писал письма. Через два-три часа я уже поднимался по ржавым железным лестницам.
На дирижабле шли спешные приготовления. Погода была благоприятная. Метеорологические данные, обычно скудные на далеком севере, говорили о том, что над океаном спокойно и можно решиться на перелет. Амундсен передал по радио из Кингсбэя, что и на Шпицбергене установилась сносная погода, кончились снежные метели, эллинг закончен постройкой и мы можем прилетать, когда нам будет угодно.
Свежий ветер омывал воздушными струями дирижабль. По тонким и толстым трубкам с легким шипением нагнетались вверх газ и бензин. То и дело в люки спускались длинные канаты с какими-то свертками, поднимались наверх съестные припасы вручную, как тянут ведро с водой из колодца. Опять собралась вокруг дирижабля толпа норвежцев, и к пяти с половиной часам дня вся команда была на судне.
Оторваться от мачты — дело двух-трех минут. Ветер заранее позаботился о том, чтобы дирижабль стоял носом против воздушной волны, и нет никакой опасности, что корабль ударится о железные устои мачты.
Грянуло внизу «ура» и быстро смолкло — мы легко и вольно поднялись в воздух.