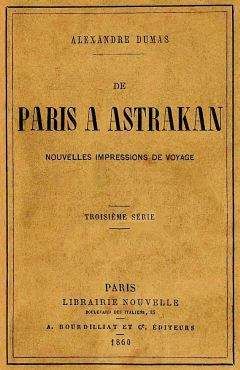Оказавшись в кабинете, Дандре делал то, что делает каждый, когда ждет друга; он насвистывал нехитрый мотивчик, рассматривал развешенные по стенам гравюры, свертывал цигарку, зажигал серную спичку о подошву своего сапога и курил. Накуриваясь, он довел себя до небольшой колики.
Дандре огляделся вокруг и, убедившись, что находится в полном одиночестве, решил, что может рискнуть; он поступил как дьявол в XXI песне из «Ада» (Смотреть последний стих упомянутой XXI песни). При этих неожиданных звуках обе борзые вскочили, метнулись в окно и исчезли в глубинах сада, как если бы их умчал сам дьявол. Весь ошарашенный таким спонтанным их исчезновением, Дандре замер на какой-то миг с приподнятой ногой, соображая, почему столь заурядный звук сумел вселить в борзых такой ужас, когда они всякий день слышат ружейную и пушечную стрельбу. Между тем, друг появился.
После первого обмена приветствиями, после первых извинений за отсутствие, он пошарил глазами вокруг себя и не мог удержаться, чтобы не спросить:
― Где же мои борзые?
― Ах, да! ― отозвался Дандре. ― Твои борзые, поговорим о них, как о странностях во плоти.
― Почему это?
― Мой дорогой, вообрази: без того, чтобы я сказал им хоть слово или как-то задел, они одним махом вдруг рванули в окно, как бешеные, и, черт возьми, если несутся так же все время, то они должны быть уже в Тифлисе.
Друг глянул на Дандре.
― Ты, наверное… ― сказал он.
Дандре покраснел так, что стыд не залил краской только белки его глаз.
― Черт возьми, ― оправдывался он, ― признаюсь тебе, что, будучи один, не считая твоих собак и не предполагая в них такую обидчивость, я подумал, что мог бы, наконец, в моем одиночестве решиться на то, что декрет императора Клавдия разрешал делать в его компании.
― Это так, ― отреагировал друг, совершенно удовлетворенный, казалось, его объяснением.
― Это так, ― подхватил Дандре; ― очень хорошо! Но мне, мне это ничего не говорит.
― Ох, дорогой мой, все очень просто, и ты сейчас постигнешь тайну. Я очень люблю моих собак; я приобрел их совсем маленькими и совсем маленькими приучил их лежать под моим бюро. Ну вот, время от времени, они делали то, что сделал ты; и чтобы их от этого отучить, я брал кнут и важнецки вздувал собаку, повинную в неприличном поведении. Так как они, как видишь, весьма смышленые, собаки подумали, что им запрещен только звук. И тогда они делали совсем тихо то, что делали очень громко. Ты понимаешь, что предосторожность была несостоятельной, потому что обоняние заменяло слух. Ну, а поскольку я не мог задирать у них хвосты в поисках истинного виновного, то важнецки хлестал обеих. Таким образом, сразу, как только ты позволил себе то, что им запрещено, каждая из них, ни в малейшей степени не доверяя другой, подумала, что провинилась вторая, и из страха понести наказание за чужое прегрешение, бросилась в окно… Еще какое счастье, что окно было открыто, они пролетели бы и сквозь стекла! А теперь, пусть в другой раз это тебе послужит уроком.
― Я придерживаюсь этого совета, ― закончил Дандре; а когда это со мной случается, я смотрю, чтобы рядом не было даже собак.
С продвижением по озеру наш взгляд охватывал все большее пространство воды и берега и впереди, и позади нас. Правый берег относился к Олонецкой губернии, левый ― к Финляндии. По обе стороны тянулись большие леса. Из этих лесов в двух-трех местах, с каждого берега, поднимались столбы дыма. Их подняли моментально возникающие пожары, о которых я уже говорил.
Я пытался вытянуть какие-нибудь сведения об этом явлении из капитана пакетбота, но сразу понял, что не окуплю затрат. Это был тип удилища, тощий, длинный и желтый, затянутый с головы до пят в черный редингот, как в чехол из-под зонтика. Его голова была покрыта широкополой шляпой с таким раструбом, что ее верх достигал той же окружности, какую имели поля. Из-под шляпы к вороту редингота тянулся острый угол: так смотрелось его лицо. Он ответил, что эти пожары вызваны огнем. То есть открыл мне одну из таких бесспорных истин, что я решил, что на это абсолютно нечего возразить.
* * *
К 10 часам вечера началась легкая бортовая качка ― плохое предзнаменование. После восхитительного захода солнца, на горизонт нагромоздились облака, и в их сплошной массе с трещинами света прокатились глухие раскаты грома.
Мы проконсультировались. Нам угрожала буря ― это было ясно, но еще не понимали, с чего, вдруг, наша буссоль расстроилась и в своем безумии больше не отличала севера от юга. Я полагал, что наш капитан будет большим докой в отношении бурь, нежели по части пожаров, и обратился к нему за разъяснением; но он бесхитростно признался мне, что не знает, где находится. По крайней мере, он обладал одним достоинством ― искренностью.
Я не слишком ужаснулся признанию. Не нахожу, в конце концов, что бог плохой рулевой; такой вывод, быть может, вытекает из того, что всегда, когда полагаюсь на него, я попадаю в порт.
За разговорами мы оставались на палубе до полуночи. В полночь выпили чаю, чтобы протолкнуть наш обед, затем легли спать на скамьях: мои компаньоны по путешествию, завернувшись в свои манто, я ― как был. Я приобрел прекрасную привычку всегда быть в одном и том же наряде, днем и ночью, летом и зимой.
Проснулся около четырех часов утра; судно, которое, подобно почтовым лошадям, привыкло к своему однообразному маршруту, обошлось без помощи буссоли и пребывало правее острова Коневец.
Поначалу, открыв глаза, я мало интересовался видом озера, крапчатого от черных точек, сквозь бледные сумерки Севера, кажущиеся прозрачным туманом. Но эти черные точки были головами монахов, тела которых скрывала вода, и руки которых были заняты тем, что тянули огромную сеть. Было их около 60-ти.
Против обыкновения русских ночей, всегда таящих что-то от зимы, эта ночь была тяжело жаркой и удушливой. До берега было около сотни шагов; не знаю, почему, но капитан не оказывал никакого давления, чтобы нас высадить. Я молча сбросил с себя одежды, сложил их в углу и прыгнул за борт в озеро.
Мне приходилось купаться на другом краю Европы, в Гвадалквивире, и я не досадовал на возможность искупаться на этом краю все той же Европы, в Ладожском озере; с бухтой Дуарнене[162], где я тоже купался, составился довольно изящный треугольник; чтобы построить четырехугольник, задаюсь целью искупаться также в Каспийском море, как только представиться случай.
Монахов острова Коневец весьма заинтриговал любопытствующий прыгун в костюме Адама, только что приплывший взглянуть на результаты их рыбной ловли. Их сеть ― огромный невод ― наполняли тысячи рыбок, размером и видом напоминающих сардин; но меня особенно восхитило, что в оба конца полукружья, образованного снастью, они впрягли по коню и, таким образом, им оставалось лишь перебирать сеть; лошади делали остальное, то есть самую тяжелую работу. Это вмешательство «третьих лиц» показалось мне достойным всяческих похвал, и я попытался выразить жестами добрым отцам, насколько я этим удовлетворен. К несчастью, заставить их меня понять было так же трудно, как если бы я имел дело с жителями острова Чатем[163] или полуострова Банкс[164]. В последнем усилии попытался говорить с ними на латыни, но с тем же успехом, как если бы я заговорил по-ирокезски.