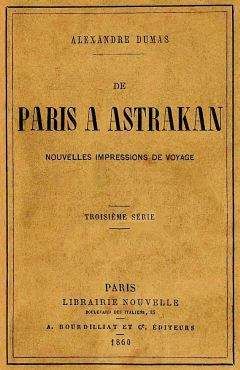Нет ничего более, невежественного, чем русское духовенство, черное или белое. Оно делится на священников и монахов, поэтому я говорю: черное или белое. Все священники ― сыновья крестьян или священников; после первой женитьбы они не могут жениться заново, но могут постричься в монахи и стать епископами; нельзя стать епископом, минуя монашество.
Священник получает плату в зависимости от величины церковного прихода. А начальное образование он получает в школе, именуемой Prichodskoe Outchilische ― Приходское училище; детей там учат приходские священники; не зная ничего, они обучают их ничему; как исключение, некоторые из этих преподавателей умеют читать, писать и делать четыре первых арифметических действия; те, кто очень учен, толкуют и рассказывают священное писание, которое знают. Посвященный из этого пансиона переходит в семинарию, где его снова учат тому, что он изучил в школе, и еще грамматике и логике. Наконец, даже большему ― молиться. С этой точки зрения, русский священник может служить примером французскому носильщику, немецкому барышнику и английскому боксеру.
Нравы священников постыдны: кто говорит «семинарист», тот говорит ― «слабоумный» или «бандит».
Более одаренные или большие лицемеры из семинаристов, когда их знания немного превосходят общий уровень, переходят в духовные академии; у них появляется епископский шанс. Ученые или нет, эти епископы отличаются грубостью.
Архиепископ Серафим просил крест для одного из своих секретарей ― архидиаконов. Вместо креста ему предложили благословение Священного синода.
― Что вы хотите, чтобы я сделал (f - asse) c вашим благословением? ― ответил он. ― Наплевать (c - racher) на него сверху!
Не трогайте начальные буквы и поменяйте местами остальные части двух слов, получите точный перевод.
Вы могли бы узнать, что он же, будучи еще просто епископом, гнал из церкви священника, не оказавшего ему знаков внимания, словами:
― Изыди отсюда, или врежу тебе по физиономии своим епископским посохом.
Все это, возможно, немного грубая картина, но тем хуже тем, кто готовит краски.
В иерархии русского духовенства пять степеней, включая пономаря: djatschek ― дьячок (sacristain ― пономарь), кто никак не священник; diakon ― дьякон (diacre); jerei ― иерей (prétre); archejerei ― архиерей (évêque); metropolit ― митрополит (métropolitain). Две первые степени, дьякон и иерей, называются белым духовенством ― beloe doukhovenstvo. Оно должно быть обязательно женато; поэтому дьякон почти всегда наследует какому-нибудь священнику, на дочери которого женится. Дальше идет черное духовенство ― tchornoe doukhovenstvo. Это монахи. Они совсем не женятся, поэтому в их среде происходят самые постыдные дебоши, самые чудовищные совокупления. К тому же, в греческом духовенстве[165] нет капуцинов, августинцев, бенедиктинцев, доминиканцев, обутых или разутых кармелитов; нет серых, белых, голубых, каштановых или других темных одеяний, какие рассыпаны по улицам Неаполя или Палермо. Черные монахи, вот и все; они носят длинную бороду, на голове у них нечто вроде кивера без козырька со спадающим сзади полотнищем черной материи, в руке ― длинный камышовый посох. Служит ли камышовый посох частью наряда? Этого я совсем не знаю, но склонен думать так, потому что никогда не встречал священника без его камышового посоха.
Женщины, епископы и архиепископы носят такой же головной убор, только белый.
Священники, особенно монахи, почти всегда развращены; но редко когда их развращенность доходит до преступления, караемого законом. Все без исключения ― пьяницы и гурманы.
Монашенки в основном мудры.
Приходские священники, особенно в деревнях, пребывают в таком невежестве, которое не способно обернуться никакой мыслью.
Один епископ, будучи в деревне при инспекции своих приходских священников, входит в церковь во время службы, что длится примерно 1,5 часа. Со все возрастающим вниманием он слушает то, что говорит священник, который, замечая его присутствие, прибавляет елейности голосу и бормочет вдвое быстрей.
По окончании мессы епископ подходит к священнику.
― Черт возьми, что ты сейчас говорил? ― спрашивает он.
― Что вы хотите! ― отвечает приходский священник. ― Я собрал это из того лучшего, что у меня есть.
― Как, из лучшего?
― Да.
― Понятно, а знаешь ли ты церковный язык.
Старославянский язык смахивает на сербский говор.
― Очень плохо.
― Тогда скажи, какую молитву ты читал?
― Гм! Определенной молитвы не было.
― Что же было тогда?
― Я читал из «Отче наш», из «Аве», из литаний и всеми усеченными молитвами-уродцами, как видите, закончили службу.
Во время одной из своих поездок император Александр останавливается у приходского священника. Того не было на месте; император обратил внимание на брошенную в угол и покрытую пылью книгу; это была Библия. Император вкладывает между ее страницами три тысячи рублей и кладет том туда же, где он лежал.
Входит священник. Между ним и императором происходит разговор.
― Как часто вы читаете Евангелия? ― спрашивает его император.
― Каждый день.
― Не пропуская ни дня?
― Ни дня.
― С чем вас и поздравляю, ― говорит император. ― Это очень полезное чтение.
Через два года он снова едет через ту же деревню, заходит к тому же священнику, видит Библию на том же месте, раскрывает ее и забирает свои деньги.
― Ты отлично знаешь, что не читаешь Евангелий, скотина! ― говорит Александр, тыча ему в нос Библию и деньги.
И император на глазах остолбеневшего священника кладет деньги в свой карман.
Всем в России известны невежество и коррупция греческого [православного] духовенства, все его презирают, и все его почитают и целуют ему руку.
Когда я увидел вытащенную на берег снасть, нагруженные уловом корзины, рыбаков и лошадей, которые направились к другому месту, я вошел в воду, добрался до судна и нашел свою одежду в том же углу, где ее оставил.
Наступило время нашей высадки.
Перекинули трап на широкие мостки на озере, и мы сошли на берег. Более чем умеренный обед накануне и утреннее купанье возбудили во мне зверский аппетит. Мы пришли к постоялому двору монастыря; у всякого мало-мальски известного монастыря есть постоялый двор, где останавливаются паломники и паломницы. Нам приготовили завтрак, в котором съедобной была только рыба, выловленная на наших глазах.
Черный хлеб, что теперь представлялся пирожным на столе графа Кушелева, здесь, сырой в середине, внушал мне неодолимое отвращение. Я завтракал неочищенными огурцами, кисшими и перекисшими в соленой воде, ― премерзким блюдом для французских, но полным смысла для русских дворцов, корками хлеба, рыбешками и чаем.