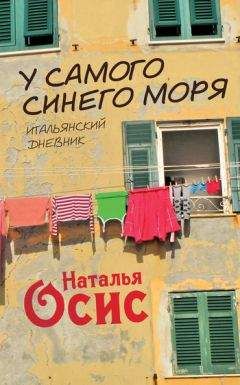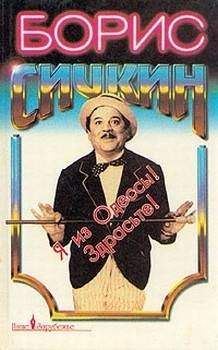На днях Сандро, мечтательно улыбаясь, подробно рассказывал, как я была одета, когда мы с ним работали в Москве на фестивале. «Ты имеешь в виду, когда мы познакомились, Сашенька?» – «Ну да, когда познакомились, и потом, когда мы работали – сколько? Десять дней? Или больше? Я помню, у тебя был небесно-голубой пиджак – такой длинный, и светлые джинсы, и…» Сначала я вспомнила свой любимый голубой пиджак, а потом с ужасом осознала, что при встрече с мужчиной моей жизни я действительно десять дней подряд ходила в одном и том же. Только майки меняла. Наверное. Совершенно не помню.
Когда я пытаюсь реконструировать события, то что-то складывается, но складывается совсем не то, что я помню. А помню я только, с каким трудом отклеивала себя от постели по утрам после четырех или пяти часов сна и повторяла себе, что, когда закончится этот проект, потом будет еще всего один, самый простой, и все закончится, и можно будет выспаться, и хотя бы два-три дня ничего не делать. Помню все бесконечные перипетии с итальянским проектом: спектакль был огромный, очень сложный, театр, в котором этот спектакль должны были играть, – не просто театр, а Театр Российской армии – единственный театр в стране, который подчиняется не Министерству культуры, а Министерству обороны, где вместо директора – генерал, точнее, генерал и есть директор, а по многокилометровым коридорам бегают строем солдатики срочной службы. Помню, что я была насмерть простужена, разговаривала как слон, которому наступили на хобот, и кашляла, как Чехов в Ялте. Отлично помню всю русскую команду – про фестивальную работу в театре вообще стоило бы писать отдельно, это гораздо интереснее, чем актерские афоризмы и биографии, правда, для этого пришлось бы воскресить жанр соцреализма, где все «наши» либо хорошие, либо очень хорошие, все умеют, ничего не боятся и горой стоят за своих… А вот итальянцев не помню совершенно. Во-первых, их было сорок человек, а во-вторых, никто из итальянской труппы, кроме технического директора Сандро, не говорил по-английски. Я быстренько выучила по-итальянски «спасибо», «пожалуйста», «налево», «направо», «здравствуйте» и «до свидания» – так же, как выучивала на любом другом языке для любой другой театральной труппы, но они так и остались для меня плохо организованной толпой немтырей, устраивающих забастовки из-за отсутствия пива и вина на обед, скандалящих из-за туалетной бумаги и не понимающих, что график их работы вписан в график работы гигантской машины фестиваля, где параллельно идут восемь-десять спектаклей в разных театрах Москвы. Самое интересное, что всех их я теперь хорошо знаю, почти всех люблю – каждого по-своему, но соединить этих отдельных людей, которых я знаю и люблю, с теми, составлявшими галдящую и постоянно чего-то требующую толпу, решительно не могу.
К Сандро я кидалась за разъяснениями каждый раз после того, как переводчики мне передавали какое-нибудь новое, заведомо невыполнимое требование. Три дня у нас ушло на то, чтобы договориться, что все запросы будут поступать сразу к Сандро, а он уже будет передавать их мне. На четвертый день работы я наконец-то, с великодушного разрешения переводчиков, смогла добрать пару часов сна и приехать на площадку к десяти часам утра. Помню, с каким наслаждением в тот день я завтракала при солнечном свете, благословляя русских переводчиков и итальянского технического директора, – кто каждый день завтракает в потемках, меня поймет. Позавтракав не спеша, я приехала на площадку, обошла, как мороз-воевода, свои владения и только собралась забраться в какой-нибудь укромный уголок, чтобы закапать и запшикать себе в нос и в горло разные волшебные лекарства, которые позволяли мне говорить членораздельно, как эти самые великодушные переводчики напали на меня в темном коридоре, прижали к стенке и грозно спросили, сказала ли я Сашеньке – они с самого первого дня стали называть Сандро Сашенькой, – что у меня в наличии имеются сын и муж. «Какой буж? Кобу сказать? Вы это о чеб?» – прогундела я. «А ты скажи, скажи», – еще строже приказали переводчики и подтолкнули меня к Сандро, который как раз вывернул из-за угла, чтобы озадачить меня то ли арендой сварочного аппарата, то ли покупкой золотых рыбок. И дальше я опять ничего не помню, кроме работы, потому что на работе мы ни о чем не говорили, кроме работы! Вот я все время и думаю, нормальный я после этого человек или нет?
А самое обидное, что про него, про моего любимого и ненаглядного мужа теперешнего, я тоже ничего не помню. Как он на меня смотрел? (Нормально смотрел.) Как он был одет? (Нормально был одет.) Как он попросил мой номер телефона? (При такой работе еще бы у него не было моего номера телефона.) Как мы в первый раз остались вдвоем? А мы вообще оставались вдвоем? Что-то же я должна помнить? Как – р-раз, и разговор выворачивает совсем на другие рельсы, и сразу становится понятно, что теперь можно будет просыпаться и засыпать с улыбкой. Или, наоборот, становится страшно, потому что теперь на этого человека придется смотреть совсем другими глазами и контролировать каждую фразу… и вообще вносить коррективы в свое поведение. А вот этого-то «р-раз» и не было. Был просто хороший человек, очень профессиональный, очень внимательный, и все с ним было очень легко и просто. А больше я ничего не помню.
Хотя нет, не совсем так. Я помню, как трогательно Сандро гордился тем, что для послепремьерного банкета он привез с собой вторую пару штанов – нерабочих – и радостно мне эти штаны в день премьеры демонстрировал. А на этих выходных штанах (приготовленных специально для банкета) красовалось какое-то очень профессиональное пятно на колене. Я прямо видела, как эти штаны надевались на какую-нибудь другую премьеру, где за пятнадцать минут до спектакля надо было что-нибудь срочно переносить, сгружать или чинить, поддерживая коленом, а может, это было две или три премьеры назад, а штаны так и лежат в гастрольной сумке. Так оно скорее всего и было. Потому что штаны эти я теперь хорошо знаю. Пятно с них не выводится, что не мешает моему Сашеньке называть эти штаны «выходными». Штаны эти я, конечно, уже спрятала. Они лежат рядом с моим голубым пиджаком, который тоже давно превратился в линялую тряпочку.
Мелкий бес
Генуя и Рим – первое знакомство
После десяти дней совместной работы последовала ежедневная двухмесячная переписка на весьма… гм… своеобразном английском. Убедить меня в том, что мне нужен был настоящий отпуск, было делом несложным, и при первой возможности я поехала в Италию.
Августовская Генуя была жаркой и пустынной, как Сахара. Казалось, мы с Сандро оказались одни в пустом и пыльном, оставленном жителями городе. Глухие серые ставни «сарачинески» (в память о сарацинах) с листочками «закрыто на каникулы до сентября», маленькое кафе на пустынной площади без единого посетителя, очередь из трех потерянных, невменяемых от жары людей около мороженщика на углу – и никакого движения. Нет бы мне наслаждаться тогда красотой великолепной Генуи-Супербы без суеты и спешки, но мне казалось, что нужно что-то еще важное увидеть, запомнить, не упустить, и поехали мы, бедные, – то есть я, влекомая могучим туристическим инстинктом, и ни в чем не виноватый Сандро, – в Рим, куда таких идиотов, как я, ведут все дороги.
И если в Генуе мы были одинокими мародерами, то в Риме оказались частью несметного полчища варваров, наводнивших Вечный город при полном отсутствии жителей. Особенно меня поразило обилие японцев, намертво приклеенных к своим фотоаппаратам, ускоренным маршем обходящих помеченные в плане ключевые точки города.
Европейцы и американцы были, конечно, тоже, и в большом количестве, но они казались более своими, что ли: они так же страдали от жары, так же растекались по стульям и скамейкам, утирая пот и прикладываясь к бутылочкам с водой, и так же, как и мы, недоуменно смотрели на построенных в колонны, собранных и целеустремленных японцев, на которых эта африканская жара, казалось, не производила решительно никакого впечатления.
Я, конечно, в тот момент меньше всего думала о туристах. Я рвалась в Сикстинскую капеллу, где мне надо было во что бы то ни стало прочувствовать и ощутить величие подлинников Микеланджело – ну сколько можно основывать свои представления об основных шедеврах Возрождения на репродукциях? Но единственным доступным для меня ощущением в Сикстинской капелле оказалось дежавю московского метро в час пик. Мне наступали на ноги, пихали локтями в ребра, не шутя толкали в спину и даже ухитрялись каким-то образом поддавать под коленки. Ну метро, как есть метро. Какая-нибудь станция «Киевская» в восемь часов утра в будний день. Только сверху – фрески божественного Микеланджело, а вокруг толпа японских людей с фотоаппаратами вместо лиц. И эти люди, обыкновенно такие милые и вежливые, недвусмысленно и единодушно давали мне понять, что не стоит стоять на дороге и, задрав голову, что-то там разглядывать. Сфотографировал – и вперед, не задерживай движение.