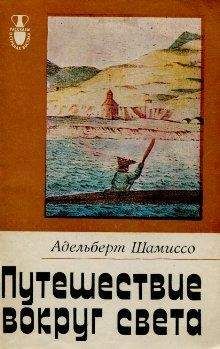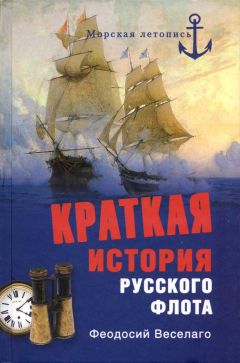За первым «Альманахом муз» А. Шамиссо и К. А. Варнхагена последовали еще два ежегодника; для них уже нашелся издатель. Альманах перестал выходить лишь после того, как политические события разбросали в разные стороны и авторов, и издателей. Тем временем я усердно учился; прежде всего изучил греческий, затем перешел к латыни, а потом и к живым европейским языкам. Во мне зрело решение оставить военную службу и полностью посвятить себя научным занятиям. Однако роковые события 1806 года{12} помешали моим намерениям и отсрочили их осуществление. Университет в Галле, куда мне хотелось последовать за друзьями, был закрыт{13}, а друзья рассеялись по миру. Смерть отняла у меня родителей. Разочаровавшись в себе, не имея положения и занятий, надломленный, сокрушенный, я переживал в Берлине мрачные дни. Самое губительное воздействие оказал на меня один из выдающихся умов своего времени — человек, которого я боготворил{14}. Одного лишь его слова, одного кивка было бы достаточно, чтобы понять меня, но вместо этого по причинам, до сих пор мне непонятным, он предпочел меня растоптать. Один из друзей порекомендовал мне тогда совершить какой-нибудь безумно дерзкий поступок, чтобы восстановить хоть что-то из утраченного и вновь обрести жизненную энергию.
Из подавленного состояния, в котором я пребывал, меня вывело приглашение занять пост преподавателя лицея в Наполеонвиле, неожиданно полученное поздней осенью 1809 года от старинного друга нашей семьи. Я направился во Францию, но так и не смог приступить к работе. Случай, за которым стояла неумолимая судьба, еще раз распорядился мной по своему усмотрению. Я попал в кружок мадам Сталь{15}. После ее изгнания из Блуа зиму 1810–1811 года я провел в Наполеонвиле у префекта Проспера Баранта{16}, а весной 1811 года последовал за знатной госпожой в Женеву и Коппе. В 1812 году я деятельно способствовал ее бегству{17}. В обществе этой удивительной женщины я провел незабываемые дни, познакомился со многими самыми выдающимися людьми той эпохи и пережил одну из глав истории Наполеона — его противодействие силе, не желавшей ему покориться, ибо рядом с ним не должно было существовать ничего самостоятельного.
В конце 1812 года я покинул Коппе и своего друга Огюста Сталя{18}, чтобы посвятить себя изучению природы в Берлинском университете. Так впервые в жизни я стал действовать решительно и начертил себе путь, которому отныне неизменно следовал.
Мировые события 1813 года, в которых я не принимал активного участия — ведь у меня больше не было отечества, или я его еще не приобрел,— породили в душе моей страшную раздвоенность, но не смогли совлечь с избранного пути. Чтобы рассеяться и позабавить детей друга, я написал в это лето сказку «Петер Шлемиль»{19}, нашедшую благосклонный прием в Германии, а в Англии ставшую чуть ли не народной.
Едва лишь почва под ногами упрочилась и над головой засияло голубое небо, как в 1815 году разразилась новая буря{20} и опять позвала людей к оружию. То, что я слышал от близких друзей, впервые выступавших в поход, теперь обращал к себе: мне нет места на поле брани. Но как тяжело оставаться пассивным созерцателем в годину вооруженного народного движения!
Принц Макс Вид-Нойвид{21} собирался в ту пору совершить путешествие в Бразилию. Мне пришла в голову мысль присоединиться к нему, и я предложил свои услуги. Однако подготовка к экспедиции была завершена, и принц уже не мог расширить ее штат, а предпринять поездку на собственные средства я был не в состоянии.
У Юлиуса Эдуарда Хитцига{22} мне в руки случайно попала газетная статья, в которой коротко сообщалось о предстоящей в ближайшее время экспедиции русских к Северному полюсу. «Хотелось бы мне побывать с этими русскими на Северном полюсе!» — мрачно воскликнул я, топнув при этом ногой. Хитциг взял газету, перечитал статью и спросил: «Ты это серьезно?» — «Да!» «Тогда быстрее достань сведения о твоих ученых занятиях и способностях. Посмотрим, что можно будет сделать».
Руководителем экспедиции газета назвала Отто Коцебу. Хитциг был связан со статским советником Августом Коцебу{23}, жившим тогда в Кёнигсберге, и сохранил с ним дружеские отношения. С ближайшей почтой Хитциг послал статскому советнику Коцебу письма и отзывы моих наставников, коих с гордостью могу назвать своими друзьями. Вслед за его ответом вскоре пришло письмо из Ревеля, датированное 12 июня 1815 года, от его зятя, адмирала, в то время капитана императорского русского военного флота Крузенштерна{24}, уполномоченного быть организатором экспедиции графа Румянцева. Я назначался естествоиспытателем экспедиции, посылаемой для открытий в Южное море и вокруг света, вместо профессора Ледебура{25}, который вынужден был отказаться от этой должности по слабости здоровья.
Радость предвкушения. Поездка через Гамбург в Копенгаген
Теперь я действительно был на пороге самых светлых грез, на которые едва ли мог отважиться даже в детстве. Они носились еще в «Петере Шлемиле», но я не смел надеяться на их осуществление и став мужчиной. Я был как невеста, ждущая горячо любимого с миртовым венком на голове. Это была пора настоящего счастья; жизнь оплачивает предъявленные векселя не полностью, и на этой земле самый блаженный тот, кого отзовут с нее прежде, чем жизнь преобразует необузданную поэзию его мечтаний в низменную прозу будней.
Ощущая в себе радостную деятельную силу, я смотрел в широко распахнутый передо мной мир, горя желанием сразиться с любимой природой, вырвать у нее ее тайны. Подобно тому как в те немногие оставшиеся до посадки на корабль дни страны, города, люди, с коими я познакомился, представлялись мне в наивыгоднейшем свете, который излучала радость, переполнявшая мою грудь, так и я производил самое благоприятное впечатление на всех, кто видел меня тогда; ведь отраден уже сам вид счастливого человека.
В письме капитана Крузенштерна в весьма точных выражениях излагалось все, что мне надлежало знать о своем ближайшем будущем. Время торопило: «Рюрик» должен был покинуть Петербург 27 июля, а Кронштадт — 1 августа. При благоприятных обстоятельствах он мог уже 5 августа прибыть в Копенгаген. Мне предстояло решить вопрос, где присоединиться к экспедиции: в Петербурге или в Копенгагене. В случае, если я предпочту первое, на границе меня будет ждать паспорт для въезда в Россию. Никаких перспектив, связанных с удовлетворением честолюбия или стремлением к наживе, передо мной не открывалось; единственной наградой должно было служить сознание того, что я участвую в славном предприятии. Судно было, по-видимому, превосходно построено, весьма хорошо и удобно оснащено. Моя каюта, как указывалось в письме, несмотря на небольшие размеры корабля, была много лучше той, которую занимал Тилезиус{26} на борту «Надежды».