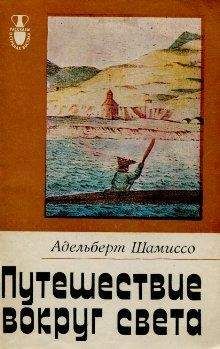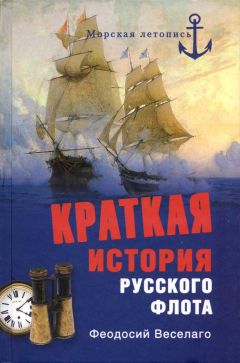В письме капитана Крузенштерна в весьма точных выражениях излагалось все, что мне надлежало знать о своем ближайшем будущем. Время торопило: «Рюрик» должен был покинуть Петербург 27 июля, а Кронштадт — 1 августа. При благоприятных обстоятельствах он мог уже 5 августа прибыть в Копенгаген. Мне предстояло решить вопрос, где присоединиться к экспедиции: в Петербурге или в Копенгагене. В случае, если я предпочту первое, на границе меня будет ждать паспорт для въезда в Россию. Никаких перспектив, связанных с удовлетворением честолюбия или стремлением к наживе, передо мной не открывалось; единственной наградой должно было служить сознание того, что я участвую в славном предприятии. Судно было, по-видимому, превосходно построено, весьма хорошо и удобно оснащено. Моя каюта, как указывалось в письме, несмотря на небольшие размеры корабля, была много лучше той, которую занимал Тилезиус{26} на борту «Надежды».
После здравого обсуждения вопроса с друзьями было решено, что мне следует сесть на корабль в Копенгагене, а три недели до середины июля с пользой провести в Берлине.
В эти дни я получил от Огюста Сталя письмо из Парижа, датированное еще 15 мая, но прибывшее с запозданием, поскольку в силу сложившихся обстоятельств его доставили кружным путем. С чувством душевной боли я отложил письмо. Жребий был брошен, и мой взор устремился только вперед.
Мысли моего друга были обращены от старой Европы к Новому Свету: он собирался отправиться в девственные леса у реки Св. Лаврентия, принадлежавшие его матери, чтобы основать там город Некерстаун. Он желал соединить наше будущее, излагал свой далеко идущий план, который надлежало обсудить подробнее, и определял отведенную мне роль. Вместе с завербованными рабочими мне предстояло следующей весной встретить его в Нью-Йорке. Я смог лишь написать ему об обстоятельствах, изложенных выше, и не без огорчения отказаться от сотрудничества в осуществлении плана, который, впрочем, остался невыполненным. Мне так и не довелось узнать, что помешало этому.
Я занимался теперь прежде всего тем, что, используя время и благожелательное отношение сведущих людей, старался узнать, какие пробелы в науке можно надеяться заполнить, совершив путешествие, подобное намеченному; спрашивал, что нужно повидать и что следует собирать. Я мог задавать себе и другим лишь общие вопросы; о цели и плане путешествия Крузенштерн мне ничего не сообщил — я не знал, какие берега нам предстоит посетить.
Нибур{27} указал мне на слабо изученный участок восточного побережья Африки, заметив, что его нетрудно было бы достичь, если бы экспедиция при возвращении двигалась на запад. Смущенно и почти испуганно я ответил ему, что решать подобные вопросы может только капитан. Он считал, однако, что в этом случае совет ученого может иметь определенный вес. О том, что представляет собой ученый в такой экспедиции, станет ясно из последующих страниц этой книги.
Поэт Роберт{28} сказал мне: «Шамиссо, собирайте для других и везите домой камни и песок, водоросли, грибы, Entozoa и Epizoa, что означает, как я слышал, кишечнополостных червей и паразитов, но не пренебрегайте моим советом: если представится возможность, собирайте также и деньги и откладывайте их для себя. Мне же привезите трубку дикарей». Я привез другу эскимосскую трубку, и это его порадовало, но о деньгах забыл.
Замечу кстати, что на «Рюрике» я обнаружил статью д-ра Шпурцгейма{29}, в которой в целях развития краниологии рекомендовалось срезать у дикарей волосы на голове и делать гипсовые слепки их черепов.
Я выехал из Берлина в Гамбург 15 июля 1815 года обычным почтовым дилижансом. Теперь уместно и своевременно дать описание чудовища, носившего название дилижанса, ибо прогресс покончил и с ним. Чтобы не подорвать доверие к своим словам, могу сослаться на Лихтенберга{30}, сравнившего эту адскую машину с бочкой Регулуса{31}. «Немецкая почтовая карета,— писал я тогда{32},— кажется, создана специально для ботаников, ибо действовать можно, только находясь вне ее, а движется она так медленно, что человек при желании может уйти далеко вперед и вернуться обратно. Ничего не упустишь и ночью, так как утро застанет тебя примерно на том же месте, где ты был вечером».
Кучер, правивший лошадьми в самом начале пути, долговязый, веселый жандарм, за те пять с половиной лет, что он пробыл в отставке, проделал по своему маршруту — примерно 10 миль от почты и обратно — 8524 немецкие мили{33}, в то время как длина экватора составляет лишь 5400 миль. Пассажиры попались малоинтересные. Но в Ленцене к нам присоединился простолюдин, красивый, крепкий старик, служивший ранее матросом в Гамбурге, а сейчас — речник на Эльбе. Не раз он видел северные полярные ледники, так как долго работал гарпунером на судах, промышлявших китов и тюленей. Однажды его корабль вместе с многими членами экипажа погиб во льдах. Проведя на льду семнадцать голодных дней, он сумел добраться до Гренландии, где семнадцать месяцев прожил с «дикарями» и выучил их язык. Датское судно с командой из пяти человек взяло его с двадцатью товарищами по несчастью на борт и доставило в Европу. Примерно из 600 человек домой возвратилось лишь 120. Сам он потерял несколько пальцев. Встреча с этим человеком доставила мне больше радости, чем чтение книг, и вскоре мы подружились. Просто и живо он поведал мне обо всем, что довелось увидеть, пережить и претерпеть; я внимательно слушал, стремясь почерпнуть из этого нечто полезное, и перед моим мысленным взором вставали ледяные поля и торосы, берега Ледовитого океана, куда я надеялся попасть через Берингов пролив и где, возможно, и на мою долю выпадут такие же переживания и страдания.
18 июля я прибыл в милый сердцу город Гамбург, где занялся делами, навещал старых друзей и завязал новые полезные знакомства. Особенно любезен и внимателен был Фридрих Пертес{34}. В его книжной лавке со мной приключился презабавный случай. Слуга, заметив дружеское отношение ко мне хозяина и увидев, что я, стоя у глобуса, рассказываю о дальних путешествиях, спросил у одного из служащих: кто этот черноволосый чужеземец, чьи поручения он так часто выполнял? «Разве ты не знаешь? Это Мунго Парк{35}»,— ответил тот. Радостный и гордый, словно газетный лист, где напечатана важная новость, курьер стал бегать по городу, сообщая всем, кого знал, что Мунго Парк не погиб, что он здесь, у его хозяина, выглядит так-то и так-то и много рассказывает о своих путешествиях. Тогда добрые гамбуржцы — группами и в одиночку — устремились в лавку Пертеса, чтобы воочию увидеть Мунго Парка. В четвертой главе «Шлемиля» сказано: «Признаться ли? Мне льстило, что меня, пусть по ошибке, принимают за венценосца».