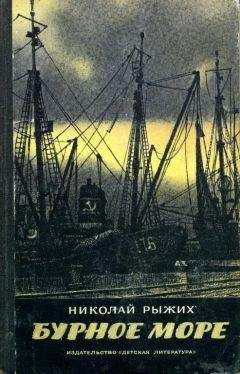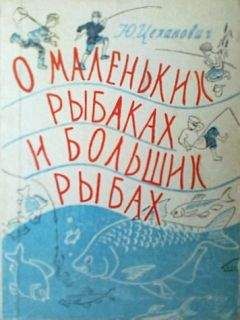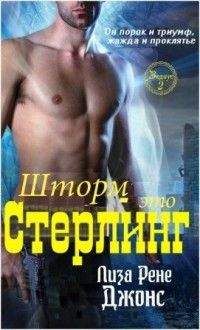Макук тоже был со всеми. Он сидел на корточках возле переборки, дымил самокрутками, улыбался. В ребячьи споры не встревал.
К утру ветер стал стихать, но еще мел снегом по гребням волн, посвистывал в снастях. Пошла крутая зыбь. Она бережно, как любящая мама, поднимает «Онгудай» на самые вершины седых холмов, укутывает пеной — пеленками и, ласково качнув с бока на бок, опускает в самые ямы между волн. Снег пошел гуще, видимость ухудшилась.
— Волну сгладит, — сказал боцман.
— Да, теперь оно скоро успокоится, — сказал Макук. Он приподнялся с корточек и, с трудом разгибая спину — даже морщился от боли, направился с мостика. — Пойду, ребятки, полежу немного. — Его кривые валенки ступали медленно, тяжело, он прихрамывал. А спина узкая, худая...
— Да, — сказал Андрей.
— Да, да, — сказал Брюсов.
— Нет, ребята, — сказал Сергей, — на Камчатку с нами или в океан он не выдержит.
— Никудышный совсем... — вздохнул Васька.
— Порыбачь, медуза, лет сорок — я хотел бы тогда на тебя посмотреть, — вставил боцман.
— Дак я ж и говорю... это ж море.
— Ребятки, перекусить пора, — донесся с трапа голос Артемовны, — уж целые сутки путем не ели.
И верно ведь. Уже пролетели сутки — вчера в это время Борька намотал на винт. А тянулись они все-таки долго.
Спускаемся вниз, поглощаем котлеты, жареную колбасу, рыбу, «какаву».
— Первое я не варила ребятки, нету никакой возможности.
— Все нормально, Артемовна.
— Отлично сыграто, Людмила Артемовна, — говорит боцман.
— Миллиграммчик бы перед такой закуской! — смеется Андрей.
— Не мешало бы, — говорит боцман.
— Да у тебя ж завязано? — вставляет второй механик.
— С устатку можно и развязать, — вмешивается Василий. — Я бы сейчас и то стакашек пропустил.
— Вот на берегу, Вася, — говорит Андрей, — когда будешь стекло таскать, или мусор закапывать, или... что ты там еще собираешься делать?
— Я в колхозе.
— Он в колхозе хвосты быкам вертеть будет.
— Найдем что-нибудь, — уверенно, со смешком говорит Василий.
— Так вот, Вася, — продолжает Андрей, — там, когда захочешь, тогда и выпьешь. «Сельмаг» там у вас есть?
— А я самогоночку, Андрюша. Вот приезжай ко мне в отпуск! Хоть на недельку, а? Все время пьяные будем.
— Андрею Захаровичу при коммунизме будет лафа, — смеется второй механик, — водочка по потребности. Пей — не хочу. И боцману тоже: наливай да пей. Правда, Егорович?
Андрей болезненно сморщился и отодвинулся от механика. Хотел что-то сказать, но только безнадежно вздохнул.
— Эх, мотыль, мотыль, — закачал головой боцман, — и дрянной же ты мужик! Я бы вешал таких. Без суда и следствия, как Петр I интендантов после года службы.
По трапу грохочут сапоги, скатывается Брюсов. На нем лица нет. В первый момент он ничего не может сказать и только тяжело дышит.
— Пять Братьев! — наконец выдохнул он и опять кинулся наверх. Мы за ним.
«Онгудай» несет на скалы. В первый момент трудно прийти в себя и что-нибудь понять. В снежной мгле, серые, скользкие, укутанные пеной, стоят скалы среди ходящих холмов воды. Холмы медленно валятся на них, яростно, с глухим уханьем бьют подножия. Пена и брызги причудливыми завитушками взлетают к самым вершинам, замирают на какое-то мгновение и, взрываясь фейерверками, рушатся вниз.
— Братцы-ы-ы...
На какой-то миг наступило оцепенение, потом ужас пошевелил волосы, коже и волосам стало прохладно, а глазам больно. Что это? Сон? Кошмарное небытие?
Нет, это не сон. Это море нам дало только отсрочку, успокоило, чтобы преподнести очередной сюрприз. Через какие-то минуты «Онгудай» трахнется о скалы и лепешкой пойдет ко дну. Шлюпка... Но она всех не возьмет. Аварийные плотики, пояса... Но все равно понесет на камни. Еще хуже. Сколько шансов, что нас как-нибудь пронесет мимо скал? Десять? Сорок? Девяносто? Если бы работала машина! Носом на волну — и можно пить «какаву».
А вдруг? Нет... Нет...
Брызги из разбитого окна хлестнули Брюсова по лицу. Он не пошевелился. Капельки воды бисером уселись на вороте шубы, струйками катятся по влажным отвернутым бортам. Он стал вытирать лицо. Немного отстранился и достал пачку «Казбека». Открыл, достал из нее бумагу — пальцы прыгают. Он смял все вместе с пачкой и сунул в карман.
Вдруг где-то над снежной метелью блеснул слабый солнечный свет. Еле заметная радуга просияла над скалами, зайчики слабенько сверкнули по стеклам рубки и прыгнули на медные диски компаса. Воду откачали, 54-й на подходе... Как все просто и как невероятно.
Давать SOS незачем — раньше 54-го никто не успеет. А его нет. Да и рискнет ли капитан 54-го маневрировать среди камней, спасая нас?
Надо спускать шлюпку, плотики, нести спасательные пояса — о них каждый думал все время, только никто не говорил. Это уже всё... Брызги летят к вершинам скал, повисают плакучими ивами.
Смотрю на ребят. Грубое лицо боцмана обострилось, под скулами обозначились желваки. Борькины глаза выкатились и побелели, он вот-вот закричит. Сын бессмысленно смотрит на скалы — глаза как двугривенные: тупость, покорность. Он, видимо, ничего не соображает. Сергей что-то шепчет. Лицо Андрея презрительно осклабилось. Он понял неизбежность предстоящего и будто бросает вызов, будто смеется над кем-то. А может, он уже не в себе? У второго механика и рот и брови не на месте.
Как все невероятно! Головой о переборку — и всему конец. А может, это все-таки сон? Бывает же так: проснешься — и ничего нет. И можно радоваться, что это был сон.
— Давайте ж пояса...
— А там камни...
Нет, это не сон. Во сне так не бывает. Но что же это? Ведь все проходит. Пройдет и это. Стоит дождаться сегодняшнего вечера, и все кончится. А когда он будет? А может, не вечер... У мудрого царя Соломона на внутренней части перстня было написано: «Все проходит».
Может, «Онгудай» как-нибудь пронесет мимо скал? А может, ветер изменит направление и понесет «Онгудай» в другую сторону? Вариантов много в нашу пользу. Надежда есть. У человека всегда есть надежда. Даже если один шанс из миллиона — это уже надежда.
Подошел радист. Лицо страшно утомлено, возле губ кривые какие-то складки. С одной стороны лица они резче, и рот сдвинут набок. Мы-то здесь все вместе были, а он один сидел в своем закутке.
— Что, пятьдесят четвертый?
— А зачем он?
— Что-о-о? — прохрипел боцман. Он прохрипел не радисту, а еще кому-то... в воздух. Его волосатая грудь вздымается, и кажется, дикая сила вырвется из волосатого треугольника на груди и начнет рушить все на свете.
Радист не обратил внимания на рев боцмана, подошел ближе к окну.
— У-у-у! — рычит боцман. Бессилие в этом реве.
Как жестоко тянется время. Надо что-то делать, но что? Что? Все бесполезно...